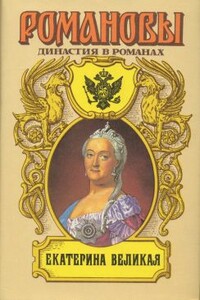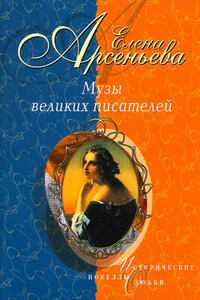Владимирские Мономахи | страница 20
Аникита Ильич, проходя итальянскую гостиную, остановился на мгновение перед портретом брата Саввы Ильича, как делал каждый раз.
Затем он вошел в гостиную сына, обращенную теперь в спальню. В довольно большой комнате все занавесы на окнах были наполовину спущены, а окна, несмотря на июльские жаркие дни, затворены… Все в комнате пропиталось особым спертым воздухом и удушливым запахом.
В углу, на большой кровати, под тяжелыми суконными занавесами, лежал больной…
Изможденное лицо, желтое и испитое, при закрытых глазах, казалось лицом мертвеца… Но когда молодой человек открывал свои большие, красивые черные глаза — глаза князей Никаевых, — то лицо его принимало странное выражение. Взор горел, сверкал жизнью, силой, воодушевлением. Казалось, душа, покидая тело, перешла и оставалась пока, на время, только в глазах.
От массы черных курчавых волос, лохматившихся на подушке, испитое лицо казалось маленьким, и больной смахивал на 14-летнего отрока, так как, несмотря на слабость, дворянский обычай бриться строго соблюдался. Каждые три-четыре дня цирюльник брил молодого человека. Сам больной, конечно, предпочел бы избегнуть этого, так как все подобное утомляло его и отнимало последние силы, но отец настаивал на «благоприличии».
Аникита Ильич, войдя в полутемную комнату, прищурился, как от света… Он видел постель, белую подушку и среди нее черные кудри, но лица разглядеть не мог…
— Алеша, не спишь? — выговорил он.
— Нет, — тихо отозвался молодой человек, хотя действительно при появлении отца находился, как и всегда, в полудремотном состоянии.
— Ну, что? Все то же? — спросил старик.
— То же… — еще тише ответил больной.
— Так и будет! Так и будет! Хуже будет! — заговорил Аникита Ильич, садясь в кресло у самой кровати. — Даже и помереть этак можно…
— Я и то… помираю… Чую, что… недолго…
— Эвона! Ври больше… Слушался бы меня, ничего этого давно бы не было, давно бы был на ногах. Вот немец наш на что упрям, а со мной согласен, когда я сказываю…
— Не могу, батюшка… Слабость…
— Враки! Приневолься… Я по себе сужу… Не хочется, а встань, сядь… Не хочется, а ешь и больше… Раза четыре в день… А там в сад… Пройдись. Ну, хоть до фонтана и назад. А завтра малость побольше съешь и малость побольше пройдись… Что?
Молодой человек ничего не отвечал. Он слышал эти слова и эти советы все в тех же выражениях почти ежедневно, иногда длиннее, подробнее, красноречивее, с оттенком даже гнева или досады. Старик был убежден, что во всякой хворости не надо «даваться». Он никогда сам не поддавался болезни, в постель не ложился и был на седьмом десятке лет так же бодр, как и в сорок лет. Но он не знал, конечно, того, что он сам собственно никогда не болел серьезно за всю свою жизнь. Как не верил он в то, что сын не может себя приневолить встать, поесть и пройтись, так же не хотел он верить заявлениям доктора Вениуса, что сын в безнадежном положении…