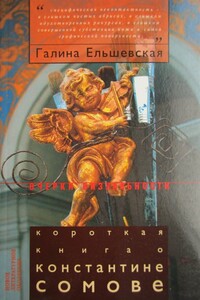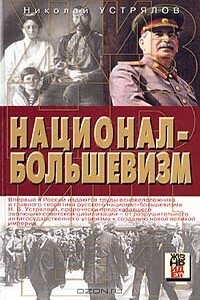Голос как культурный феномен | страница 43
Эти мотивы (и в романтической и в декадентской окраске) отсутствуют в русской литературе, не связывающей голос, особенно механический и электрический, с желанием, эротикой и сексуальной амбивалентностью. Русалки и Лорелеи – образы западной фантастики. В русском фольклоре водяные девы не просто асексуальны, они связаны с чем-то отвратительно скользким. Они крадут детей, хлеб, скот и приводят в ужас путешественников, детей и лошадей своим смехом. Они могут довести до смерти, но не манящим в глубины голосом (они издают лишь хихикающие, сдавленные звуки), а тем, что защекочут неосторожного странника. В русской поэзии и драме русалка превращена в молодую девушку, покончившую с собой от несчастной любви, и русские поэты снабжают ее соблазнительным эротизмом под влиянием европейских образцов: «Ундины» Фридриха Де Ла Мотт Фуке (1811), переложенной Василием Жуковским (1841), «Мелузины» Гете (1807), «Ундины» Гофмана (1813–1814), «Лорелеи» Гейне (1823), «Русалочки» Андерсена (1836). Поэма Василия Жуковского, незавершенный отрывок Пушкина, опера Даргомыжского сохраняют мотив мистического брака стихии природы и человеческой плоти, оживляющей эту стихию и сообщающей ей метафорическую глубину души, но месть русалки уступает самопожертвованию женщины во имя любви (она не увлекает своего соблазнителя в пучину, а спасает его). Голос русалки не является центральным моментом в этих произведениях. Он словно захлебывается водой и не таит в себе гибельного очарования[130].
В русском фольклоре голос не манит в смерть. Он прямо приносит смерть, как это делает свист мужчины, Соловья-разбойника.
«Без итальянских украшений и в первобытной простоте». Итальянская опера и русская оперная критика
Русская литература последовательно и настойчиво соединяла русский голос только с природой. Предпочтение неискусного природного голоса искусному, один из лейтмотивов русской оперной критики XIX века, несомненно, оказало определенное влияние на литературное ухо.