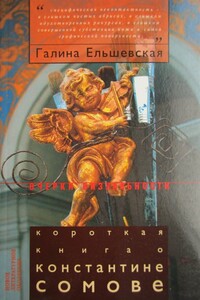Голос как культурный феномен | страница 35
Эта опора на звуковые стереотипы образует своего рода код, устанавливающий пространство интерсубъективности, облегчающий узнавание и во многом опирающийся на толстовские стереотипы. Герою «Театрального романа» кажется, что он говорил звучным и сильным голосом, на самом деле он хрипел голосом злобным и тонким (376).
В этом смысле интересно, что ухо поэта и композитора Пастернака скорее переводит звучание голосов в «Докторе Живаго» в визуальный план. Разумеется, и у него есть седеющие дамы, которые «разговаривали грудными скрипучими голосами»; женщина с высокой грудью и низким голосом; крысы, которые «отвратительно взвизгивали контральтовыми плачущими голосами», или кучер, который разговаривает с лошадьми «тоненьким бабьим голоском, как няньки на квасящихся младенцев». Однако следователь, врач и двое городовых снабжаются «холодными деловыми голосами “казенного будничного образца”». Лара выхаживает Юрия Живаго не только «своей лебедино-белой прелестью», но и «влажно дышащим горловым шопотом своих вопросов и ответов»[105]. Эти визуальные проекции, возможно, укоренены в опыте Пастернака-кинозрителя, который соединяет две парадигмы восприятия голоса – литературные фантазии и кинематографические визуальные воплощения. Подобное восприятие отличает и Николая Волкова, долголетнего спутника Ольги Книппер-Чеховой, тесно сотрудничавшего со МХАТом, который активно писал на «звуковые темы» в советских киножурналах. Рассуждая о сочетании изображения и голоса в кино, он замечает, что «звуки подтверждали то, что видел глаз», но прибегает к примерам писателей, бывших кинозрителями. Так, у Горького в «Старухе Изергиль» наружность связана прямо со звуком голоса: «Ее сухой голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями»[106].
Первая глава. Голос как воображение и изображение
Литературные фантазии, метафорические сюжеты
Опера: страсть, смерть и поющие машины. Западноевропейские романтики и декаденты
Если взгляд традиционно кодировался как олицетворение мужской организующей воли, то голос появился в литературном воображении как его альтернатива – воплощение женского эротического желания, противостоящего порядку и размывающего границы[107]. Эта символическая коннотация была разработана в ключевых романах и новеллах XIX века об опере и певцах, с возвращающимися мотивами, среди которых меня интересует лишь один – пение. Оно наделялось магической и мистической властью, которая зиждилась на принципиальной амбивалентности голоса, инструмента этой власти.