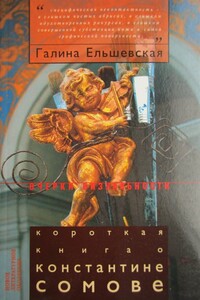Голос как культурный феномен | страница 32
Пожалуй, первым русским писателем, сделавшим голоса знаком индивидуального и одновременно профессионального и социального отличия, был Лев Толстой. Он научил русских литераторов слышать и создал новый стереотипный словарь. Он снабдил своих героев постоянным голосовым эпитетом, как он это делал и с другими характеристиками – вроде вздернутой губы маленькой княгини или роскошных плеч Элен Курагиной. Стереотипы голосов Толстого психологичны и национальны («где-то внутри горла проговорил голос англичанина», милый грудной контральтовый голос Вареньки)[98]. Он слышит в них аффективное состояние героев (Петя, «на которого никто не обращал внимания, подошел к отцу и, весь красный, ломающимся, то грубым, то тонким голосом, сказал» о своем решении идти в армию; Том III/Часть I/Глава XX).
Толстой чувствует голоса и поэтому может заметить о Левине и Николае: «Эти два человека были так родны и близки друг другу, что малейшее движение, тон голоса говорил для обоих больше, чем все, что можно сказать словами» (Часть III/Глава XXXI). Но свой голос Левин слушает с остранением, не любит его: Левин отвечал «с неудовольствием, нарушая тишину леса своим неприятным самому себе голосом» (Часть II/Глава XV) либо говорил с «ненатуральным, самому себе противным голосом». Он подмечает гормональные изменения (так, Левин улавливает, что голос Кити меняется во время беременности) и профессиональные и социальные особенности.
В голосах военных («крикнул он своим знаменитым в командовании, густым и заставлявшим дрожать стекла голосом», «Анна Каренина», Часть II/Глава XIX) священников (с «кротким певучим», «ясным, ненапыщенным и кротким голосом, которым читают только одни духовные славянские чтецы и который так неотразимо действует на русское сердце», «Война и мир», Том III/Часть I/Глава XVIII), протодьяконов («с их раскатом голоса, ожидаемого с таким нетерпением публикой», «Анна Каренина», Часть V/Глава VI), аристократов («моряк говорил тем особенно звучным, певучим, дворянским баритоном, с приятным грассированием и сокращением согласных, тем голосом, которым покрикивают: “Чеаек, трубку!”, и тому подобное»; «Война и мир», Том III/Часть I/Глава XXII). Толстой находит сословные стереотипы, которые повторяются из романа в роман и образуют групповую идентичность. Хриплым голосом говорят люди низкого сословия – солдаты, крестьяне, художники, бабы («Треща веселыми грубыми звонкими голосами двигается вереница баб»; «Один грубый, дикий бабий голос затянул песню и допел ее до повторенья, и дружно, враз, подхватили опять с начала ту же песню полсотни разных, грубых и тонких, здоровых голосов», «Анна Каренина», Часть III/Глава XI, глава XII).