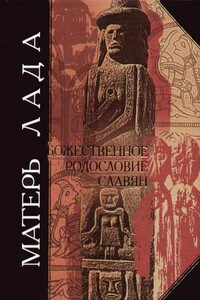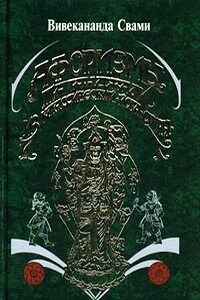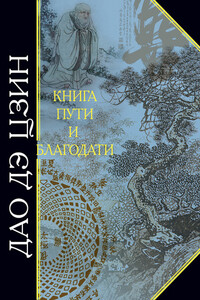Голубиная книга. Славянская космогония | страница 20
«Голубиную книгу», как уже сказано, слагали волхвы, а перерабатывал священник-двоеверец. В начале стиха к небесной книге сходятся все сословия: цари, князья, бояре, попы и крестьяне. Но в его древнейшей мифологической части место первого сословия, происходящего от головы первочеловека, занимают не попы и не волхвы, а цари с царицами. В былинах при дворе Владимира фигурируют князья, бояре, богатыри и волхвы:
Так что о волхвах как сословии на Руси не забывали. Тем временем у полабских славян, покоренных немцами, исчезли и жрецы, и князья. В договоре 1181 г. между маркграфами Оттоном Мейсенским и Дитрихом Лужицким славянское общество делится на жупанов, кметей (воинов, рыцарей) и смердов. Жупан — глава общины (жупы), старейшина, позднее — средний феодал (барон). То есть в сознании славян, как и других индоевропейцев, общество «достраивалось» до трехсословного, ибо считалось, что только такое устройство, соответствующее устройству мира-вселенной, гарантирует миру-обществу процветание.
Царем в Древней Руси называли либо могущественного иноземного государя (императора Рима или Византии, хана Золотой Орды), либо великого князя Киевского, (например, Ярослава Мудрого в надписи на стене Софийского собора). Стих, как и былина, вопреки феодальной реальности, где князь, в том числе и великий, был прежде всего воином, рисует идеальную картину: священный царь (великий князь) только правит, обороняют же державу знатные воины (князья, бояре, богатыри). Русские волхвы и их преемники-сказители сохранили идеал индоевропейских жрецов: править должны мудрые. А не сильные или богатые.
Трехсословная система, разумеется, освящала привилегии господствующих классов. Но она же заставляла их помнить о своих обязанностях перед обществом, не давала превратиться в законченных паразитов. В Афинах, на родине демократии, за праздность наказывали. До «свободы» не трудиться додумалось только Новое время (если не считать Спарту и поздний Рим, где свободные презирали труд). И когда Петр III вполне в духе этого времени даровал дворянству «вольность», т. е. право вовсе не служить, то тем самым превратил бар в глазах крестьян в тунеядцев, которых следует истребить или изгнать. По иронии судьбы, поднял народ против «освободившихся» дворян казак Пугачев под именем… Петра III. И даже отмена крепостного права не уменьшила ненависть простых людей к помещикам и заводчикам: ведь те были «свободны» даже не управлять своими поместьями и заводами, а прожигать жизнь в Петербурге и Париже. Так разрыв с тысячелетними традициями ударил по тем, кто мнил их «устаревшими» и «стеснительными» для себя.