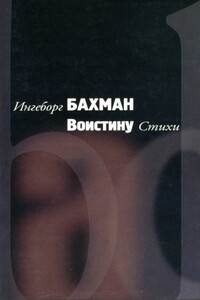Малина | страница 40
Как это было? Очень интересно
Ах так, ну-ну, и ты?
Ничего особенного, но было интересно
Ложись-ка ты пораньше спать
Так ведь зеваешь ты, это тебе пора спать
Не собираюсь, я еще не знаю
Нет, но я ведь должна утром
Ты действительно должна утром?
Я сижу дома одна и, заправив в машинку лист бумаги, бездумно печатаю: «Смерть придет»[15].
Фрейлейн Еллинек оставила мне на подпись письмо.
«Глубокоуважаемый господин Шёнталь!
Благодарю вас за прошлогоднее письмо, в смущении вижу, что оно датировано 19 сентября. К сожалению, из-за множества неотложных дел я не имела возможности ответить вам раньше, и даже в этом году еще не могу взять на себя какие-либо обязательства.
С благодарностью и наилучшими пожеланиями».
Я заправляю в машинку другой лист бумаги, а первый бросаю в корзину.
«Глубокоуважаемый господин Шёнталь! Я пишу вам сегодня это письмо в величайшем страхе и безумной спешке. Поскольку вы для меня чужой, мне легче написать вам, чем моим друзьям, а поскольку вы — человек, что явствует из ваших столь дружественных усилий…
Вена… Неизвестная»
Всякий сказал бы, что Иван и я несчастливы. Или что у нас еще долго не будет оснований считать себя счастливыми. Но всякий неправ. Всякий — это никто. Я забыла спросить Ивана по телефону насчет налоговой декларации, — Иван великодушно обещал мне, что на будущий год он составит для меня эту декларацию. Меня не интересует налоговая служба и то, чего она там от меня хочет в наступающем году, меня интересует только Иван, когда он говорит про будущий год, а Иван сегодня заявил: он забыл сказать мне по телефону, что по горло сыт бутербродами и хотел бы наконец узнать, что я умею готовить. И вот сейчас я опять жду от одного-единственного вечера больше, чем от будущего года. Ведь если Иван хочет, чтобы я готовила, то это что-нибудь да значит, ведь тогда он уже не может удрать от меня, как после глотка спиртного, и сегодня ночью я роюсь у себя в книгах, но поваренных книг в моей библиотеке нет, надо немедленно одну-две купить, — вот нелепость, ведь что бы я ни прочитала до сих пор, какой мне от всего этого прок, если я не могу использовать прочитанное для Ивана. «Критику чистого разума» я читала при 60-свечевой лампе на Беатриксгассе, а еще Локка, Лейбница и Юма, в сумраке Национальной библиотеки, при маленьких лампочках набивала себе голову понятиями всех эпох — от досократиков до «Бытие и ничто»[16]; Кафку, Рембо и Блейка глотала при 25 свечах в парижском отеле, Фрейд, Адлер и Юнг были прочитаны при 360 свечах на пустынной берлинской улице под тихое кружение шопеновских этюдов; пламенную речь об отчуждении духовной собственности я изучала на пляже под Генуей, — бумага в пятнах соли, покоробившаяся от солнца; за три недели в Клагенфурте, лежа с температурой, ослабев от антибиотиков, прочитала «Человеческую комедию»; Пруста глотала в Мюнхене до рассвета, пока в мою мансарду не вломились кровельщики; французских моралистов и венских логистиков одолевала со спущенными чулками, выкуривая по тридцать французских сигарет в день, прочла все от «De Rerum Natura»