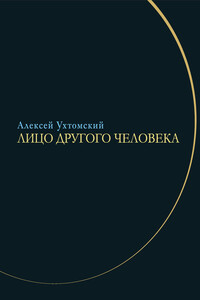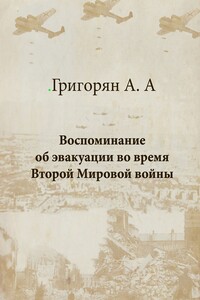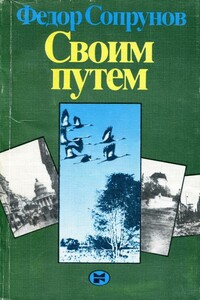Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование | страница 8
Что же касается детства, то, поддаваясь давнему, но не забытому, так и не изжитому до конца душевному гнету, Казаков о своем суровом, нескладном детстве распространяться – повторяю – не любил. И не отличался, как большинство его литературных сверстников, желанием вспоминать о военном лихолетье, хотя Великая Отечественная война в его сознании навсегда запечатлелась как первый грозный рубеж их общей судьбы.
…Ровесники Казакова, люди его поколения, предъявляли войне свой неоплаченный счет. Одни из них детьми узнали унижение плена и каторгу немецких арбайтслагерей, другие вынесли на себе кошмары ленинградской блокады, третьи хлебнули горя, попав в неисчислимые потоки беженцев, и даже те, кто не мыкался по военным перепутьям, а вроде бы сравнительно спокойно жил в глубоком тылу, где-нибудь в алтайской деревне или на далекой сибирской станции, не могли не слышать каждодневного дыхания фронта. Как бы по-разному ни складывались их личные биографии, чувство общей судьбы, чувство пережитой в детстве несправедливости и обиды никогда не покидало их.
Чем обернулась для них война?
Василий Шукшин:
«В войну, с самого ее начала, больше всего стали терзать нас, ребятишек, две беды: голод и холод. Обе сразу наваливались, как подступала бесконечная наша сибирская зима со своими буранами и злыми морозами… Будь она трижды проклята, эта зимушка-зима!..»
Виктор Конецкий:
«На рубеже сорок первого и сорок второго годов за хлебом в булочную надо было отправляться рано утром, до открытия. Иначе можно было остаться и без ста двадцати пяти граммов. Света в коридоре и передней не было. На вход и выход мы пробирались, ощупывая в темноте трупы, сложенные вдоль стены. Несмотря на уличный мороз в квартире, запах разложения был. И страх перед трупами сохранялся, но тусклый страх, монотонный, страх без страха перед неожиданным испугом, страх перед мразью тления…»
Анатолий Приставкин:
«Нас было в спальне одиннадцать человек. У каждого из нас на фронте был отец. И при каждой похоронке, приходившей в детдом, одиннадцать маленьких сердец замирали. Но черные листки шли в другие спальни. И мы облегченно вздыхали и начинали опять ждать отцов. Это было единственное чувство, которое не угасало всю войну…»
Виталий Семин:
«Почти все лагерные полицейские были пожилыми людьми. Они подошли к тому возрасту, за которым человека в Германии называют „опа“. Опа – дед, старик, старина, отец… Опы действовали быстро, жестоко и весело. Били не только гумой – резиновой палкой, но ногами, руками и тем, что в этот момент попадало под руку. Тогда я понял, что такое