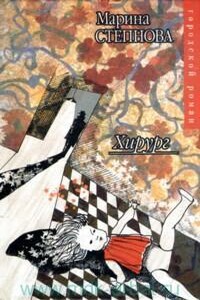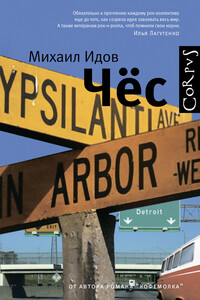Где-то под Гроссето | страница 21
Оксанка привстает на цыпочки и начинает объедать боярышник прямо с ветки. Ртом.
Я наконец решаюсь и аккуратно подбираю ягоды с ладони.
Боярышник вкусный. Правда, внутри он набит противными шерстяными семечками, от которых чешутся губы, но Оксанка в два счета научает меня сплевывать их на землю. Это здорово! Через час мы уже не можем есть и просто сидим под огромными кустами, держась за руки и заливаясь смехом. Смех без причины – признак дурачины. Я еле выговариваю любимую бабушкину фразу – и мы с Оксанкой валимся друг на друга, вялые, горячие, совершенно обессиленные хохотом. Дурачины!
Наконец Оксанка вытирает мокрые глаза, передергивает тощими плечами, поправляя бретельки, и встает.
Пошли домой, а то влетит.
Я честно пытаюсь подняться – и не могу. Жара кружится возле моей головы с низким жужжанием. Это какая-то очень жаркая жара. Я зажмуриваюсь, но всё равно вижу, как листья вокруг смыкают резные края, словно пытаясь собраться в непроницаемую головоломку. Оксанка, говорю я, давай одну минуточку поспим, всего одну минуточку», – но Оксанка не слышит, и я сама не слышу, и только что-то катается внутри моей головы: бух, бух, бух, всё медленнее и медленнее. Сон без причины. Признак дурачины. Но Оксанка не смеется.
Вставай, ты чего, – просит она. – Ты чего? Вставай!
Оксанка тянет меня за длинную, длинную, страшно длинную руку. И я в первый раз в жизни слышу в ее голосе страх. Расходится клубами. Как будто в стакан с чистой водой опустили запачканную черным кисточку и быстро-быстро взболтали.
Дура! Дура чертова! Дебилка! Коза!
Бум, – отвечает шар в моей голове, и я засыпаю.
Когда я в следующий раз открываю глаза, передо мной – дверь. Наша. Синяя. Дерматиновая. Собака породы дерматин. У меня собаки нету. И кошки тоже. Только красная игрушечная лошадь. Конь-огонь.
Оксанка, громко всхлипывая, звонит в звонок.
Дзы-дзы-дзы!
Медленный шар внутри меня докатывается до невидимой стенки и невпопад откликается: бух.
Оксанка поворачивается, и я понимаю: она плачет.
Ключи! Где ключи, дура?!
Я ложусь на коврик и закрываю глаза. Ключи подо мной. Я чувствую их боком. Маленькие и твердые.
Оксанка изо всех сил пинает меня ногой в босоножке. Босоножка белая, стоптанная, растрескавшаяся. Время заносит ее, пудрит Оксанкины пальцы, поджавшиеся от ужаса, словно она вот-вот сорвется с насеста и полетит куда-то в воющую глубину. Баба Маня говорит неправильно: «нашест». У шестикрылого серафима тоже должен быть нашест, понимаю я. Иначе как же ему спать, бедному? Я представляю себе огромный курятник и уходящие до самого горизонта ряды крыльев и кудрей, крыльев и кудрей, крыльев и кудрей.