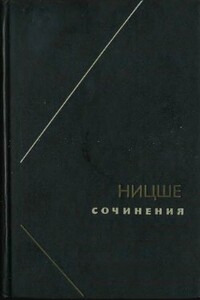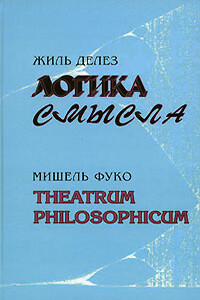…Но еще ночь | страница 8
или «очарованными частицами» , меньше попустительствуют нелепостям, чем находя в нем место для умерших: прежних других и будущих себя! Как будто не нелепость — думать (или как раз не думать, а считать само собой разумеющимся), что человеческие мысли и чувства, запертые на время жизни в черепе и грудной клетке, после смерти выпадают из целого и просто куда-то исчезают! Как будто нормально, что физические законы сохранения имеют силу для чего угодно, от энергии до барионных чисел, но только не для внутренних человеческих миров, которым они между прочим обязаны своим существованием! Конечно, университетски вышколенная мысль и здесь станет требовать доказательств, называя доказательством то, что само еще сперва должно быть доказано, но, наверное, нельзя было бы полностью исключить и такой вариант, при котором мысль, соприкоснувшись с этой перспективой понимания , захотела бы именно в ней попробовать себя и свое будущее .
Разговор о будущем в смысле означенной выше линии подходов мог бы, впрочем, начаться и в другой — менее шокирующей и более доступной — плоскости: с попытки общих характеристик сменяющих друг друга эпох по специфике господствующих в них и задающих тон типов. Из анамнеза некоего прошлого мы пришли бы к диагнозу настоящего, после чего вопрос о возможном будущем определялся бы не гаданием, а более или менее ясной прогностикой. Если ограничить диапазон контекстов Новым временем, то первое, что нам бросится в глаза, будет появление на сцене нового типа, вытесняющего прежний и утверждающего себя с запалом уверенного в себе новичка. Это буржуа , во всем наборе самопрезентаций: от мольеровского Журдена до совершенного негоцианта Савари и франклиновского selfmademan . Его история, запечатленная в классических анализах Вебера и Трёльча, начинается с кальвинизма (хотя у Зомбарта он уже и католиком во Флоренции XV века чувствует себя как дома): в эпоху, когда католический мир всё больше походил на сатирикон и лупанарий, и кому-то из консервативных революционеров христианства приходилось становиться бо́льшим католиком, чем либеральные римские папы. Им и стал — как бы в прообраз и предвосхищение Тридентской регенерации — Кальвин, этот перенесенный в Женеву (чтобы не быть сожженным, а сжигать самому) Савонарола; нам едва ли удастся удержаться в круговерти недоразумений, если мы упустим из виду саму подоплеку случившегося: время, вышедшее из пазов, и смыслы, сшибшиеся в несовместимостях. В мире, где участью нищего, когда-то