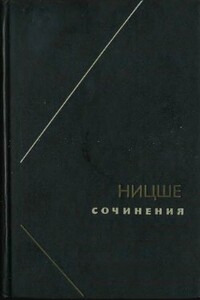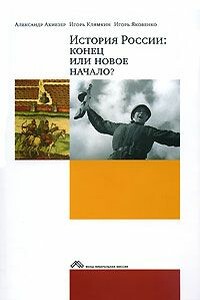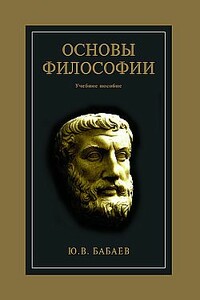…Но еще ночь | страница 38
10.
Если проследить вехи становления Европы, от Верденского мира (843) до Вестфальского (1648), и дальше до Венского Конгресса (1815), а от этого последнего до Версальского договора (1919), потсдамско-ялтинских соглашений (1945) и уже, в завершение, Маастрихта (1991), то первое, что бросается в глаза, — это ускорение темпов, доходящее уже в наше время до каких-то трансцендентальных скоростей. Решающим при этом всегда был вопрос о принципах образования европейского целого. Под принципами, очевидно, следует иметь в виду господствующие в каждую из отмеченных эпох понятия и представления, по которым ориентировался процесс строительства. Так, первые очертания Европы в распаде и дележе наследия Карла Великого несут несомненный теологический и даже теократический характер. Напротив, Европа, перекроенная после 30-летней войны, покоится уже на некой политической теологии, с которой Томас Гоббс будет списывать свою этатистскую теодицею. Европа Венского Конгресса — творение Меттерниха — последняя эфемерная попытка отстоять старую Европу под натиском пришельцев из миров Джона Баньяна и Адама Смита. После Версаля, а уже окончательно после Ялты и Потсдама — это некий фантомный образ между реалиями американского Запада и советского Востока. Хрущев лишь сделал наглядным этот фантом в памятном символе Берлинской стены, по одну сторону которой начиналась Америка, а по другую Советский Союз. Сама Европа, понятным образом, оказывалась замурованной в стене, что означало: объем и величина её не превышали объема и величины стены. И только после спохватились, что в эйфории победы перешли все границы; что если с Европой было трудно, то без Европы стало нельзя; что Европа — это не просто отец, которому самое время, по фрейдистской инструкции, свернуть шею, не просто конкурент, которого можно обобрать до нитки, а коромысло весов мира, на котором держатся чаши и без которого обе — западная, как и восточная — сверхдержавы теряют смысл и суть. История возникновения Евросоюза — история попыток по оживлению трупа Европы 1918 и 1945 года. Труп, конечно, не ожил, но труп научился (я цитирую Блока) притворяться непогибшим. Сначала это были 15 государств-членов, не без зловещей аллюзии на только что преставившиеся 15 советских республик. Сейчас их 27. Вопрос даже не в том, сколько их еще станет завтра, а в том, по какому принципу они вообще становятся. Что требуется для того, чтобы стать Европой? Если не больше, чем приверженность к демократическим ценностям, то бочка может ведь оказаться бездонной. Донозо Кортес еще в 1850 году сравнивал Европу с клубом. Быть принятым в Евросоюз приравнивается, в этом смысле, к членству в клубе. Составляется список кандидатов, и устанавливаются испытательные сроки, во время которых белые эксперты наезжают в страны, подавшие заявку, с целью их, так сказать, техосмотра по части демократии. Вызывает чувство гадливости, когда какойнибудь очередной пфификус из Брюсселя или Страсбурга определяет степень готовности той или иной страны стать Европой, а параллельно какой-нибудь азиатский людоед лезет из кожи вон, чтобы показаться вегетарианцем. В результате возникают комбинации, которым можно было бы позавидовать даже