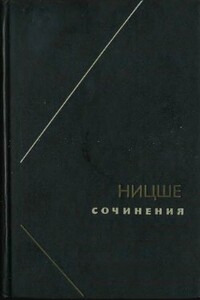Растождествления | страница 63
то уж наверняка как «волю») еврейство per se. Очевидно, именно здесь следовало бы искать объяснение того недоказуемого, но и неоспоримого «факта», что евреев больше, чем их есть. Евреем являешься дважды: один раз как еврей, другой раз и как интеллектуал. Как интеллектуал, еврей может и должен понять, что, пугая интеллект жупелом антисемитизма, он рискует и сам оказаться антисемитом. Конечно, политика упрощения всегда имеет на своей стороне большинство. Кто мало думает, дольше живет! И всё же рано или поздно придется ощутить на себе эффект бумеранга, если уж до такой степени упрощают интеллект, что идентифицируют малейшую волю к непредвзятости в анализе еврейского вопроса с антисемитизмом, как таковым.
2.
Первофеномен еврейства обнаруживает себя как реляция. Иудейство различают по его осознанному и поволенному отношению к юдаизму. Особой судьбой «избранного народа», в котором, как в никакой другом народе, присутствовала воля достичь не индивидуального, а именно народного бессмертия, было: метафизически полностью изойти в физическом, но так, чтобы отсутствие автономной метафизики полностью компенсировалось мистикой телесного. Люциферической роскоши греков и уже позднее христиан: изживать духовное в отрыве от телесного и даже в конфликте с телесным, евреи никогда не могли ни понять, ни тем более себе позволить. Их заботы были заботами не Платона, а Иова. Иов — если и не идеал иудейского, то во всяком случае его прообраз — метафизик плоти. На Иове, этом Прото—Фаусте из земли Уц, Творец мира вычерчивает, пожалуй, самые непроницаемые складки человеческой души, освобождающейся от своей плотяности и учащейся бестелесно изживаться в телесном. Увиденный так, случай Иова оказывается некой феноменологической редукцией sui generis: от «естественной установки» его доксической убогости («Похули Бога и умри!») до чисто идеируемого эйдоса покаяния и благословенности. Иов — это, пожалуй, первое свидетельство человеческого, осознающего себя как неадекватность, именно: неадекватность реакции; человек в Иове проходит испытание на человечность, учась вытеснять биологическое слюновыделение асимметричностью моральной фантазии. Эту разность, различность, несоизмеримость культурных физиогномий мы воспринимаем и на параллельно возникающей аттической трагедии, отличающейся от своего иудейского подобия просто иначе направленным вектором смысла: там душа испытует на себе возможность унять свою неразумную или даже бессмысленную судьбу эстетически, чарами Аполлона; здесь, пораженная проказою от подошвы ноги по самое темя, она учится, между прочим, благоговейно замирать перед неисповедимостью своей судьбы. Обе — иудейская, как и греческая — параллели слагают совокупность позднеантичной, в перспективе европейской культуры; решающим (и фатальным) для последней остается её бинарный и диспаратный характер, заостренная несовместимость её врожденных господствующих способностей, где Иову так же мало дано оттачивать у Платона силу своей мыслительности, как Платону учиться у Иова дару стоять