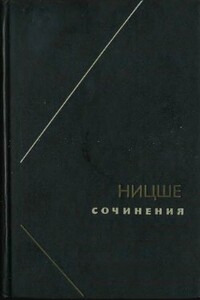Растождествления | страница 51
тогда как вещь без понятия даже не ничто и даже не абсурд (поскольку ничто и абсурд суть уже понятия). Парадокс западной логики лежал, впрочем, не в том, что она гордилась своей «чистотой», а в том, что ей всегда приходилось обслуживать более удачливых коллег по факультету: сначала богословие, потом этику, наконец естествознание, причем без намека на«комплекс неполноценности», напротив: с неожиданными в её случае пафосом и лиричностью (Кант, рассуждая об этих материях, обнаруживает наплыв чувств, который скорее выдержала бы скрипка, чем дискурсия). Вещам, обработанным в понятиях, надлежало быть добрыми и злыми, причем не здесь-и- теперь, а вообще. Сами понятия этой обработке не подлежали никак. Одна единственная йота могла после 325 года стать судьбой христианства и оспаривать у носа Клеопатры его всемирно–историческое значение, но никому не взбрело бы в голову на этом основании заклеймить «йоту» или даже «нос», как таковые! Наверняка только детской фантазии «от двух до пяти» было бы под силу объявить злым само понятие злого. В XX веке это делают уже не дети, а компетентные клерки. Совсем идеальные образцы оставил в этом отношении большевизм, enfant terrible гегельянства, идеализм которого зашел так далеко, что он попросту табуизировал некоторые понятия, после чего риск пользования ими уравнялся риску потери головы. Если атеизм и был объявлен здесь воинствующим и обязательным для всех, то он тем очевиднее являл свою одержимость Богом, который, как это знал еще Достоевский и уже чувствовал Блок, скорее узнал бы себя таким в ненависти, чем никаким в вере. Некоторое время после 1917 года существовали даже пролетарские трибуналы над Богом, где за отсутствием персонального Бога судилась идея Бога (своеобразный респонсорий заключительных аккордов «Феноменологии духа», где дух, грезящий до этого о Голгофе, как о своей реальности, вырывается из–под наркотической опеки метафизики и обретает реальность в «смертной казни через расстрел»). Зачитывался длинный список преступлений, после чего объявлялся смертный приговор: специальное подразделение вскидывало винтовки и по команде палило по небу. Всесилие цензуры в советские времена дублировало всесилие тайной полиции; цензор нагонял такой же страх в «умном месте» Платона, какой человек «6 кожанке» нагонял в повседневном пространстве. Непрерывная чистка проводилась и там и здесь по принципу проверки на верность и преданность. Некоторые понятия напоминали снятые скальпы идеологических противников, другие порождали условные рефлексы страха и подполья; шкала подозрительности помысленного колебалась между нежелательными и запрещенными понятиями; встречались и льготные понятия, так сказать, понятия
Книги, похожие на Растождествления