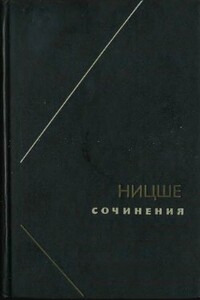Эффект клинтоновского смеха своеобразно скликался с эффектом
laxans purgativum в только что преставившемся советском обществе. Можно было лишь дивиться находчивости интеллигентных проходимцев, умудрившихся назвать прорвавшийся гнойник страха
«реформами». Страх — еще с горбачевских обещаний и призывов — сменялся настороженностью; дело было не в либерализме лозунгов, а в их феерической
топике: как если бы заматеревшие людоеды заговорили вдруг о необходимости вегетарианства или даже раздельного питания, а обслуживающие их интеллектуалы подвели этот бред под графу
«новое мышление». Поверить в то, что людоеды, а тем более отечественные, заделались либералами, мог только дурак, что, впрочем, ничуть не означало провала предприятия, а свидетельствовало, напротив, о необходимости нового экспериментального витка в его проведении. Если только дурак мог в России поверить в демократизацию страны, то дело понятным образом упиралось в обеспечение нужного количества дураков. Притом, что само
«количество» было вполне регулируемой величиной социологических технологий… Для всего, что началось потом, трудно подобрать иное слово, чем
облатнение. Дело было не в бандитах в обычном расхожем смысле; они- то как раз оставались
на своих местах. Блатным оказывался СТИЛЬ ЖИЗНИ, после того как жизнь стала ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ, соответственно: вчерашние чиновники, комсомольцы, журналисты, политики, писатели, профессора, интеллигенты и уже
кто попало — ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ.
Всё выглядело аккуратно срисованным с западных оригиналов; да и мыслимо ли было рассчитывать на гражданское общество без презумпции предпринимательства, без откупоривания всех бутылок рынка и выпускания на волю разом всех демонов коммерции! — но вот только за всем не учли одного: абсолютной несоразмерности цели и средств. Если уж так приспичило сделать из России Г олландию, то не на голландский же манер! На голландский манер это, худо ли, хорошо ли, сделали сами голландцы; в России, раз уж голландская идея не давала ей покоя, пришлось бы браться за дело по–русски: в память об одном «медном всаднике», как раз с этой целью и вздернувшем её на дыбы. Перестройщик Петр, хоть и безумец, но не смешной, заставил–таки Россию вздрагивать в такт европейскому метроному, да так, что в скором времени родоначальникам её сознания и речи приходилось, в часы вдохновения, выбирать между русским и французским. «Насилу мил не будешь» — это, конечно, не для России, где