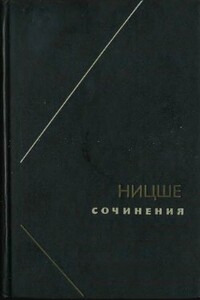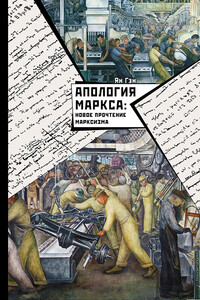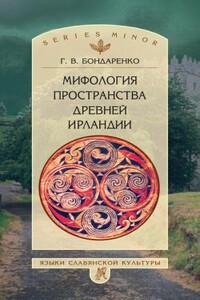Растождествления | страница 15
останется в истории как уникальнейшая прихоть монарха, разыгрывающего в одном лице не только исконно западные роли папы и императора, но заодно также и Лютера, Эразма и Вольтера. Никто не хотел ими быть, пришлось стать ими — царю. Начиная с петровских времен, с момента, когда европеизация России официально объявляется государственной программой (своего рода первоперестройкой), миф России — догнать и перегнать Европу, быть больше Европой, чем сама Европа. Мы присутствуем при рождении «загадочной русской души», загадочность которой не в последнюю очередь объясняется умением вести более желающую казаться, чем быть, западную душу (эпоха Канта и Просвещения) за нос. С этого времени принято различать Россию «в себе» и Россию сквозь лорнет западных представлений: Россию, как «мир неслыханных измерений» (Рильке), и Россию, как попугая европейских говорилен. У вас есть университеты, академии, салоны, гражданские права, свобода слова, общественное мнение! Вот, пожалуйста, и у нас! Можете прийти и увидеть собственными глазами. — Не знаешь, чему больше дивиться: ловкости потомков князя Потемкина или слабоумию их клиентов. Современный средний европеец, подрессоренный больничными кассами и всякого рода страховками, ставит успех российской демократии в прямую зависимость от наличия BigMac и вносит, таким образом, свою скромную лепту в поддержание популярного материализма, согласно которому человек (= налогоплательщик + избиратель) есть то, что он ест (или в более правдоподобной, реверсивной, редакции: он ест то, что он есть). Миф западной демократии удивительно напоминает старую греческую притчу о царе Мидасе. Всё, к чему бы она ни прикасалась, становится глупостью. Люди, еще недавно слывшие умными, все эти бывшие диссиденты, правозащитники, пикетчики, борцы с режимом, преображаются на глазах, едва оставшись один на один со своими демократическими убеждениями. Чего стоит один лишь пример нынешнего чешского президента, мученика тоталитаризма и друга госпожи Олбрайт (молчу уж о наших мучениках, ухитрившихся за пару лет вызвать у избирателей тоску по коммунистическим временам и Сталину)! Теорема: степень ума демократов прямо пропорциональна степени их преследуемости и подпольности.
В противоположность своему европейскому собрату русский царь всегда значился отцом, даже батюшкой, вследствие чего его самодержавность транспарировала не только теократичностью, но и оттенками некоей вполне фамильярной интимности. Подобного ранга не удостаивался в Европе ни один монарх. Властители Европы могли почитаться под прозвищами вроде: Святой, Благочестивый, Красивый, Смелый, даже Возлюбленный; никому из них, тем не менее, и не пришло бы в голову рассчитывать на народное признание отцовства. Оттого народы Европы всегда ходили в гражданах и никогда, как в России, в детях. Что отец мог быть добрым или злым, умным или блаженным, разумелось само собой. Рассчитывать приходилось при этом только на: повезет или не повезет. Царь–отец заботится о детях. Он их наказывает или милует. Он решает всё. Даже его слабоумие не меняет дела; с ним мирятся столь же покорно, как с судьбой (или несудьбой). Легко догадаться, что импортируемая с Запада рассудочность должна была вступить в конфликт с этим самоощущением. Нельзя стать гражданами, оставаясь детьми. Граждане не заставляют себя долго ждать, если необходимость избавиться от властителя ломится в учебники истории. Они его казнят, предварительно посадив его на скамью подсудимых и дав ему (номинальную) возможность защищаться. Дети терпят отцов, но если им внушают, что исторически необходимо другое, то даже и в этом случае они не казнят отцов, а просто их приканчивают. Давно подмечено удивительное обстоятельство, что царям в России могли прощать что угодно, но только не либерализм. Традиционно на Руси возвеличивались грозные властители и приканчивались либеральные. Александр II, которому Россия обязана Эрмитажем, Г осударственной библиотекой, Академией художеств, восьмью Университетами, освобождением Балкан и отменой крепостного права, разорван бомбой. Сталин, тридцать с лишним лет методически истребляющий и клонирующий собственный народ, в день своей смерти всенародно оплакивается как едва ли кто–нибудь до этого. Если, впрочем, и европейским государям время от времени приспичивало сходить с ума и раздувать свои нелепости (можно вспомнить в этой связи хотя бы уникум акта испанской государственности от 16 февраля 1568 года, согласно которому все жители Нидерландов были, как еретики, присуждены к смертной казни), то вряд ли кому–нибудь из них приходило вообще в голову, что он по этой самой причине мог бы лишь в большей степени слыть родным и отеческим. Прусский Фридрих I гнался за своими подданными по берлинским улицам, колотил их палкой и рычал в бессильной ярости: «Отчего вы не любите меня, паршивые псы?» Представить себе это в России, где можно представить себе всё что угодно, нельзя. Европа (как общество) требовала своих социальных свобод от своих князей — и брала их себе между прочим, даже если это должно было стоить князьям их головы. Бессменной презумпцией российской истории было, напротив: власть, будучи одной, распоряжается социальными свободами, к которым она, в случае надобности, силится подобрать необходимый социум. Русский царь, подобно языческим богам, знает над собой лишь одну власть: власть судьбы. Судьбой было, что юный царь Петр отправился в Европу и потерял свое сердце