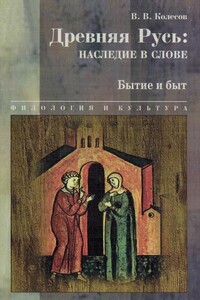Мир человека в слове Древней Руси | страница 7
Язык в разнообразии своих форм отражает самые разные способы развития понятий о мире. Определенные признаки предметного мира раньше всего выявляются в действии, в столкновении человека с предметом, на котором останавливается его внимание. Выделение признаков происходит постепенно, переходит с одной грамматической категории на другую, более отвлеченную по способу выражения: тот, кто смеет, — смел; смел выражает качество, которое становится признаком, проявляется в прилагательном смелый; однако понятие о смелом в сознании окончательно сформировалось только тогда, когда на основе всех этих «предварительных» языковых форм создается имя-понятие, в данном случае существительное смелость. А ведь на этом долгом пути постепенно изменяются и отношение к храбрости, и его характеристики; кроме того, переменчивые обстоятельства жизни требуют все новых проявлений храбрости-смелости, и существовавшие прежде слова в близком к нему значении (буйный, храбрый, мужественный) своими значениями-признаками воздействовали на семантику нового слова, — и все это вместе оказывалось весьма существенным, сыграло свою роль в становлении новых понятий, все это следует учесть, как только мы захотим представить себе историю русских понятий о смелости.
Сами способы выявления признаков с помощью слов постоянно изменялись, преобразуя вместе с тем и грамматические свойства, и средства языка. Это также помогает реконструкции, потому что нам известна последовательность в изменениях грамматических категории и периоды особой предпочтительности одних из них в ущерб другим. Глагол — самая древняя часть речи, потому что именно в высказывании рождается первое впечатление о новом признаке. Глагол древнее имени, но, в свою очередь, и из имени постепенно выделялись прилагательное, существительное, числительное и прочие имена, называющие признак в последовательности его выявления и фиксации в речи, каждый раз в непосредственной зависимости от развития мысли и потребностей, которые возникали в обществе для подобной аналитической мысли, все глубже проникавшей в тайны познания. Один простейший пример: в средние века для народной речи самая важная часть речи — глагол, но в книжном языке его функции выполняет уже прилагательное. В этом проявилось совершенно разное отношение к категориальному воплощению признака, свойства, еще не ставшего отвлеченностью качества: для народного сознания важен конкретно этот, данный, на глазах возникающий признак, тогда как для книжной христианской культуры важнее уже установленный и освященный традицией признак, застывший в форме определений, божественных атрибутов, которые не должны изменяться, поскольку они вечны и даны навсегда. Ни та, ни другая культура не ориентированы на имя существительное, потому что нет еще абстрактных понятий, совершенно отвлеченных от конкретности признака. Все то, что для нас понятия, выраженные даже в самых, казалось бы, отвлеченных по смыслу словах, в древнюю эпоху всего лишь определения (даже слово