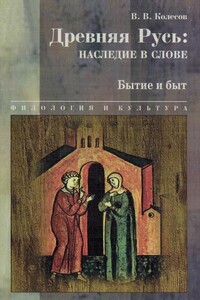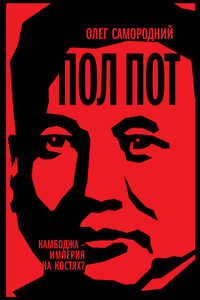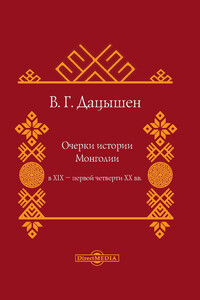Мир человека в слове Древней Руси | страница 41
Были и другие обозначения крайне близкого человека, ближайшего по крови и духу. Так, греческое gnḗsios "кровный, родной" переводилось в разных текстах как ближьнъ и как присьнъ. Слово присный "истинный" того же корня, что истъ, откуда позже истина. В «Сказании о Петре и Февронии», записанном в начале XVI в., присный братъ — единоутробный брат (от одной матери), для древнего русича ближе такого человека никого не могло быть.
Если все подобные слова, впоследствии утраченные или замененные другими, собрать вместе, окажется, что в выражении понятия о близком постепенно происходило отстранение от кровного в сторону ближнего: от родича — к знакомцу, соседу, спутнику. Сердоболя или искренний сменились сначала словом подругъ, а ведь обозначает оно того, кто «идет за другом», следует ему и тем самым связан с ним. Друг уже не всегда "родич по крови", но скорее "близкий по праву дружбы"; в конце концов и оно заменяется словом ближний. Известно мнение, что искрьнъ в книжном языке X в. означало, вероятно (как и в новоболгарском языке), "откровенный, дружественный", а ближьнъ — "родственный" (Толк. Феодор., с. 158); вполне возможно, что и наоборот, потому что такое значение слова искренний, как "откровенный", еще не известно древнему славянскому языку. Искренность понималась тогда не в отношении к слову и речи, а применительно к делу. «Не покаявшеся же искрѣнѣ к богу, потрѣбиша тѣхъ» (Пандекты, л. 200 б); искрѣнѣ в болгарском переводе заменено словом прилѣжнѣ (что больше соответствует греческому оригиналу); в XII в. На Руси искренность понимали еще как простую прилежность (но «прилежат» делу, а не слову).
Интересно, как понимается выражение «ближние свои» в «Повести временных лет». В ней есть указания на то, что ближика или ближьний — родич, а не сосед. Окончательный текст «Повести» сложился к началу XII в., но только четыре раза упоминаются в ней наши слова — в двух договорах Руси с греками. В 945 г. за убийство человека некие «от ближнихъ убьеного да убьють и его» (Лавр. лет., л. 13), а если смертью отомстить не удастся, и убийца сбежит, «да възмуть имѣнье его ближьнии убьеного» (там же, л. 136). Ближние должны также возместить утрату родича за счет имущества убийцы. В договоре Олега 911 г. специально оговаривается; «Аще кто умреть не уря[ди]въ своего имѣнья, ци своих не имать, да възратит имѣние к малым ближикам