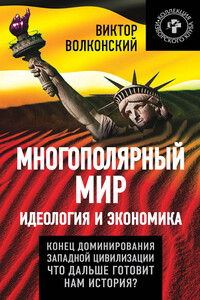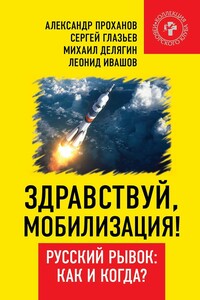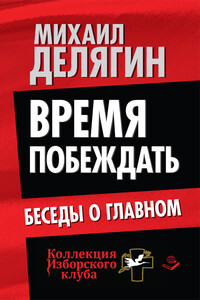Глобальный треугольник. Россия – США – Китай. От разрушения СССР до Евромайдана. Хроники будущего | страница 63
А это — известный график Мэдиссона-Илларионова, который иллюстрирует уровень российского (советского) ВВП на душу населения в процентах от аналогичного показателя США, взятого за 100 %. Как можно убедиться, в 1883–1913 гг. наша страна в таком «относительно человеческом измерении» развивалась примерно в полтора раза медленнее, чем США, а в 1957–1987 гг. — примерно на треть быстрее соответствующих американских показателей.
Но стоит заметить, что этот график, во-первых, основывается на данных официальной статистики, не вполне достоверных и не вполне сопоставимых между собой, а во-вторых — носит интегральный характер, то есть не учитывает ни военную (оборонную, милитарную) нагрузку на экономику, ни различные формы ввоза-вывоза капитала, ни уровень внутреннего социального расслоения общества: как в цензовом, так и в региональном аспектах. Иными словами, он показывает сравнительную эффективность производства внутреннего продукта двумя государствами, а не то, насколько эффективно и в соответствии с какими приоритетами они распределяют уже произведенный продукт (хотя это как раз сказывается на показателях производства последующих лет).
Можно видеть, что все три отечественных провала в подушевом уровне ВВП, вне зависимости от их времени, длительности и даже причины, имеют одну общую черту: их минимум составляет примерно 40–45 % от предыдущего максимума. Это так и при сопоставлении минимума 1922 года с пиком 1913 года, и при сопоставлении минимума 1944 года с пиком 1940 года, и при сопоставлении минимума 1998 года с пиком 1987 года.
Случайность? Если подобное происходит три раза подряд на протяжении чуть более чем столетия, то признать подобную картину случайной можно примерно с той же степенью убежденности, что и падение яблок на землю.
Иное дело, что подушевой ВВП США за все эти годы также не рос линейно, но тоже испытывал спады, самым значительным из которых, вне всякого сомнения, была и остается Великая Депрессия 1929–1939 годов. А до того Соединенные Штаты пережили Гражданскую войну Севера и Юга в 1861–1863 годах.
Иными словами, демографический прогноз Менделеева не учитывал и не мог учитывать последствий для численности населения России ни двух мировых войн, ни революции и гражданской войны, ни индустриализации и «демографического перехода» (опережающего снижения рождаемости по сравнению со смертностью), ни множества других, пусть менее значимых по отдельности, факторов, но совместно дающих мощный синергетический эффект.