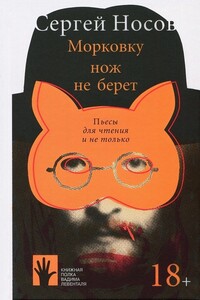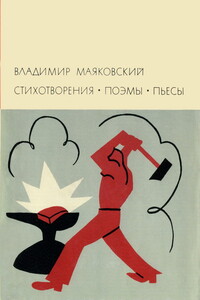Стихотворения ; Зори ; Пьесы | страница 14
Естественно, что «театр смерти» стал «театром молчания». Неизвестное вынудило умолкнуть «недействующих лиц» драм Метерлинка. Да и что можно сказать о Неизвестном? В символистских пьесах Метерлинка мало говорят, очень часто персонажи погружаются в молчание. Но и слово меняет свою функцию, перестает что-либо значить, что-либо сообщать, перестает связывать людей. Слово здесь — намек, слово — оформление внутреннего состояния человека, чем-то придавленного и исторгающего по этому поводу вопль. «Недействующие лица» из «театра смерти» перестают слушать друг друга — они прислушиваются к Неизвестному и регистрируют свое состояние краткими, предельно эмоциональными репликами. «Театр смерти» соседствует с экспрессионистической «драмой крика». Диалоги «театра смерти» надо слушать, а не вдумываться в их смысл. Они призваны настраивать, вызывать страх перед Неизвестным.
Метерлинк намеревался создать «театр марионеток». Марионетками в изображении бельгийского символиста стали люди. Может быть, именно это качество «театра смерти» особенно наглядно показывает противоположность Метерлинка и Верхарна. Даже тогда, когда пути их пересеклись, даже в годы создания трагической трилогии Верхарн не мог умертвить человека, лишить его души, мысли, лишить его способности к сопротивлению и права на сопротивление. Недаром в поэзии Верхарна появился эпический образ Кузнеца (в сб. «Призрачные деревни») — прямая противоположность марионеткам Метерлинка, образ человека, которого не дергают за ниточки, а который сам, своим трудом создает целый мир, выковывает будущее. Трагическая трилогия воссоздает образ лирического героя, для которого мерой вещей является мужество, стойкость, способность к сопротивлению.
Символист Метерлинк обожествил незнание, неизвестность; Верхарн темой поэзии сделал открытие истины и саму поэзию превратил в способ познания мира. Верхарн пытается вобрать в искусство всю полноту жизни, Метерлинк — свести к воплощению схемы. Все остановилось в «театре смерти», — движение было признаком жизни для Верхарна.
На чьей стороне была победа в этом резком столкновении двух философий, двух эстетик? На стороне Верхарна, конечно. Живому Верхарн ближе, Метерлинк ближе обреченному. За Верхарна правдивость его искусства — Метерлинк ведь выдумал царство Неизвестного, он писал декадентские сказки для взрослых людей.
То, что Верхарн одержал победу, видно из того, что Метерлинк довольно быстро сдал свои позиции и попытался приблизиться к Верхарну.