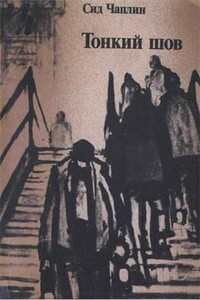Песочный дом | страница 31
- Не в руках, - ответил дядя Петя. - А детей муштровать не смогу. Меня самого в детдоме кроили, лейтенант. Не обессудь.
- Эх, солдат. - Еремеев вздохнул и убрал руку с плеча дяди Пети. - Как же это? И воевали мы оба, и покалечены...
- Так ведь и пятаки по-разному обтираются, - ответил дядя Петя.
Еремеев вздохнул, поправил портупею и ушел.
- Идем, дядя Петя, - сказал Авдейка, нашаривая за обшлагом темный палец.
- Алеша, домой! Больше не жду! - прокричала женщина в белой шапочке и исчезла в золотой ряби.
Солнце, поднимавшееся над Песочным домом, дрожало в стеклах, скользило по ломам, которыми переворачивали карусель, и стояло двумя синими кольцами в распахнутом окне третьего этажа.
Скрытый полумглой комнаты, там затаился Лерка, прижимая к глазам трофейный бинокль. Приближенная цейсовскими стеклами, под ним лежала красноватая земля в асфальтовой раме, разбросанные по ней графически-хрупкие, не привившиеся к жизни саженцы, скатанный брезент и вздыбленный карусельный круг. Весенним гомоном звучал двор, и Лерка жадно ловил доносившиеся до него веселые выкрики:
- Еще! Взяли! Подпирай, Леха! Ломать - не строить, сердце не болит! Да подпирай же, черт! Прими ногу! Пошел!
Лерка переминался с ноги на ногу, подавляя желание броситься во двор на общую и веселую работу. После утра семнадцатого октября, когда в опустевшем дворе последний раз кружилась карусель, Лерка не разговаривал с ребятами. Тогда их сблизила неизвестность и смутный страх возможного вторжения, но немцев отбросили, и установившаяся жизнь в угрюмых заботах голода и изнурительного труда - жизнь на грани жизни - стеной отделила от них Лерку, для которого ничто не изменилось с войной. Он стал чужим, он остался в счастливом довоенном мире, навсегда исчезнувшем для дворовых ребят - и они забыли его. Он по-прежнему ходил в школу и часами сидел в своем кабинете у рояля, и тот же профессор консерватории разучивал с ним "Хорошо темперированный клавир" Баха. Профессор был сух, высвечен старостью, как одуванчик, а руки его, которые ценил еще Антон Рубинштейн, сохранили безвременную юность. Когда профессор уходил, Лерка разбирал оперные партитуры, импровизировал или доставал тайную тетрадь с упражнениями по контрапункту и решал все усложнявшиеся задачи.
Так он рос - неприметно, как все живое, поднимаемое непрестанным и глухим усилием природы, - и все доступнее становился ему мир формы - замкнутый, совершенный и неподвластный времени, как руки профессора. А за окнами призраками скользили редкие прохожие. Сыпучий снег заметал их следы, свивался в шатер над каруселью и все падал, падал в сумеречный и пустынный двор, погребая саму память о довоенных играх, в которых Лерка бывал так счастлив.