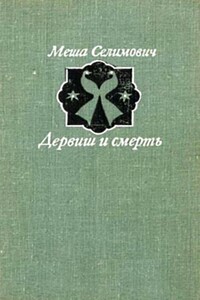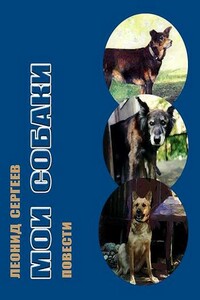Избранное | страница 72
Длинная послеполуденная тень, хмурая душа скал, ползла по полю, затемняя его, она прошла и по мне, окружила, а солнечный свет бежал от нее, скользя к другой горе. Ночь еще далеко, тень лишь ранний ее предвестник, зловещий в своем угрюмом знамении. Ни души на разделенном на две половины поле, пустынны они обе, один я стою в этом пространстве, которое поглощает тьма, я песчинка в этом замкнутом просторе, переполненная смутной тоской, что несет моя извечная душа, чужая и своя. Я один в поле, один во всем мире, беспомощный перед тайнами земли и безмерностью неба. И вдруг откуда-то с гор, от домиков, стоящих в стороне, послышалась чья-то песнь, прорвалась по солнечному свету к моей тени, как бы спеша мне на помощь, и в самом деле освободила от мимолетных и странных чар.
Мне не удалось уклониться от непрошеного внимания Хасана. Свежий, улыбающийся, в голубом минтане, с подстриженной мягкой бородкой, благоухающий ягом, он словно стряхнул с себя три месяца путешествия, запах скота, пота, постоялых дворов, пыли, грязи, позабыл о брани, о горных перевалах, об опасных речных переправах; он сидел с хафизом Мухаммедом на верхней террасе над рекой и выглядел как молодой ага, избалованный жизнью, которая не требует от него ни усилий, ни мужества.
Я застал их за беседой. Этот гуртовщик, бывший мудериз, умел заставить хафиза Мухаммеда поделиться своими знаниями и тогда получал возможность возражать ему, шутя, не придавая значения ни тому, что услышал, ни своим возражениям. Я всегда удивлялся, как в столь несерьезных беседах он находил разумную аргументацию, преподнося ее в безумной форме.
Мы поздоровались.
— Ты что-нибудь узнал о брате? — сразу же спросил Хасан.
— Нет. Завтра пойду снова. А как тебе ездилось?
Так лучше, пусть мои заботы со мной и остаются.
Он произнес несколько избитых фраз о своей поездке, пошутил, что он всегда зависит от воли божьей и от норова скотины и соответственно подчиняет им свою волю и свой характер, а потом попросил хафиза Мухаммеда продолжить рассказ, весьма любопытный, но и весьма сомнительный, о возникновении и развитии живых организмов, о проблеме, всегда актуальной, пока существует жизнь, эта тема весьма располагала к дискуссии, особенно в ту пору, когда спорить не о чем и когда мы умираем от скуки, соглашаясь со всем.
Хафиз Мухаммед, который три месяца отмалчивался или говорил о каких-то пустяках, неожиданно завел странный разговор о происхождении мира, совсем не по Корану, нарисованная им картина, однако, была занимательной, он извлек ее, скорее всего, из какой-то книги, он прочел их великое множество, да еще приукрасил своей фантазией, и заискрилась эта картина огоньками уединенных страстей, мир рождался и погибал в его болезненных видениях. Это смахивало на богохульство, но мы уже привыкли к хафизу Мухаммеду и не считали его настоящим дервишем, он обрел право быть безответственным, какое это прекрасное и редкостное в нашем ордене право, и никто даже не усматривал опасности в том, что он иногда говорил, поскольку не очень его и понимали.