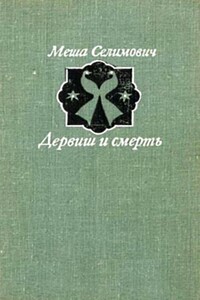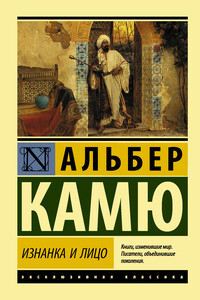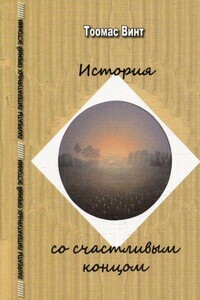Избранное | страница 68
А потом оно кончилось само собой.
Мне показалось, что за моей спиной среди молящихся стоит мой вчерашний беглец. Я не смел повернуться, но был уверен, что он в мечети, вошел после меня, я его не заметил. Голос его звучал не так, как у остальных, был более глубоким и мужественным, молитва не была просьбой, но требованием, взгляд был острым, движения гибкими, звали его Исхак, так я назвал его, поскольку он находился здесь и поскольку я не знал его имени, а должен был знать. Он пришел ради меня, чтоб поблагодарить меня, или ради себя, чтоб спрятаться. Мы останемся вдвоем после намаза, и я спрошу его о том, о чем не спросил вчера. Исхак, повторял я, Исхак — это имя моего дяди, которого, еще ребенком, я очень любил, Исхак, не знаю, какую установить между ними связь, как и почему я так упрямо призываю детство, наверняка это желание уйти от действительности. Уйти от того, что есть, спастись в бессознательном воспоминании и безумном желании избежать реальности — желании неосуществимом, оно ввергло бы меня в отчаяние, окажись оно реальной мыслью, а так оно даже и воплощалось по временам, искаженно, в туманных восторгах, в которых тело и неведомые внутренние силы искали утраченное спокойствие. В тот момент я не сознавал, что век забвения короток, но, когда родилась мысль об Исхаке, я понял, что мой покой снова нарушен, ибо Исхак тоже принадлежит к тому миру, о котором я не желал думать и, может быть, поэтому хотел отодвинуть его в область далеких снов, отделить его от времени и эпохи, в которых мы не могли быть вместе. Я хотел обернуться, моя молитва стала пустой из-за Исхака, лишилась содержания, оказалась более длинной, чем прежде.
О чем мне говорить с ним? О себе он не хотел ничего рассказывать, в этом я убедился вчера. Будем говорить обо мне. Сядем здесь, в этом пустынном пространстве мечети, в центре мира и вне его, одни, он будет улыбаться своей уверенной далекой улыбкой, которая, собственно, не улыбка, а пронизывающая холодность, и взгляд его, что все видит, но ничему не удивляется, он будет внимательно слушать меня, углубившись в созерцание узора на ковре или солнечного луча, упрямо пробивающего искристую тень, и откроет мне правду, от которой станет легче.
Воображая себе нашу беседу, я оживлял его образ, не удивляясь тому, как много я запомнил в нем, и ждал, пока мы останемся одни, как вчера, чтоб продолжить необыкновенную беседу, не таясь. Этот беспокойный, бунтующий человек, думающий противоположно тому, как думаю я, благодаря капризам непоследовательности казался мне личностью, на которую я мог бы опереться. Все, что он делал, было безумством, все, что он говорил, было неприемлемо, но только ему мог бы я открыться, ибо он обездолен, но честен, он не знает, чего хочет, не знает, что делает, он убьет, но не обманет. И, создавая в своем сердце чудесные черты абсолютно незнакомого человека, я не замечал, какой путь прошел со вчерашнего дня. Сегодня утром я хотел выдать его стражникам, а в полдень оказался на его стороне. Однако и утром я не был против него, да и сейчас, быть может, сообщил бы о нем, и это не имеет между собой никакой связи или имеет, но навыворот, наоборот. Собственно, я был лишь уверен в том, что он, Исхак, мятежник, мог бы объяснить мне некоторые вещи, завязавшиеся в тугой узел. Он один. Не знаю почему, может быть, из-за того, что он страдал, в мучениях приобретал опыт, что мятеж освободил его от принятого образа мышления, которое сковывает, что у него нет предрассудков, что он покончил со страхами, что он пошел по пути, где нет выхода, что он уже осужден и лишь героически отодвигает свою гибель. Такие люди много знают, больше, чем мы, ползающие на коленях, вызубрившие правило бояться греха, привыкшие к страху перед любой возможной виной. И хотя я лично даже в мыслях никогда не встал бы на путь отступничества, я очень хотел услышать его правду. О чем?