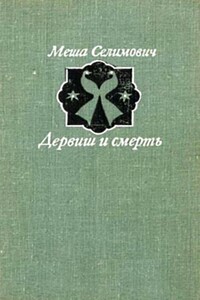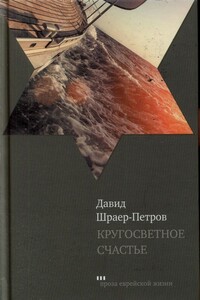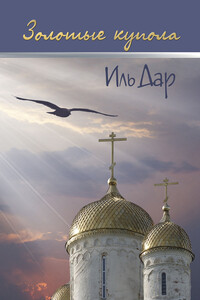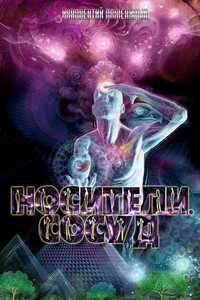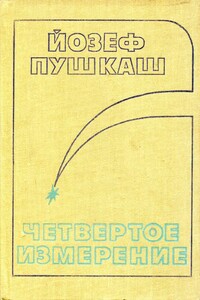Избранное | страница 49
Потом спускался молла Юсуф. Перестук его деревянных сандалий звучал неторопливо и сдержанно, слишком размеренно для такого цветущего здоровяка, он следил за своим поведением с большим тщанием, чем любой из нас, ибо ему было что скрывать. Я не верил в его смирение, оно казалось напускным, выглядело неестественным, не соответствовало его румянцу, его свежим двадцати пяти годам. Но это уже не мысль, а сомнение, чувство, которое менялось в зависимости от настроения.
Мы не много знали друг о друге, хотя жили вместе, потому что никогда не говорили о себе, и никогда откровенно, но всегда о том, что было у нас общего. И это было хорошо. Личные дела слишком тонки, смутны, бесполезны, и следовало оставить их для себя, коль скоро мы не могли от них избавиться. Разговор между нами сводился в основном к общим, известным фразам, которыми пользовались до нас другие, потому что они надежны, проверены, оберегают от неожиданностей и недоразумений. Личность — это поэзия, допустимы толкования, произвольность. А выйти за круг общей мысли — значит усомниться в ней. Поэтому мы знали друг друга лишь по тому, что было неважно или одинаково в нас. Иными словами, мы не знали друг друга, и в этом не было нужды. Знать — означало знать то, что не следует.
Однако эти рассуждения не приносили спокойствия, с их помощью я пытался лишь утвердиться в чем-то, чтоб буря не вырвала меня и не унесла; я шел по краю пропасти и стремился вернуться на твердую почву. В это утро я им всем завидовал, для них оно было обычным.
Существует безошибочный и простой способ уменьшить свою муку, даже вовсе избежать ее: сделать ее всеобщей. Беглец теперь имел отношение ко всей текии, и решение надлежало принимать не мне одному. Имею ли я право скрывать то, что принадлежит также им? Я могу высказать свое мнение, даже могу защитить беглеца, но скрывать его я не должен. Ведь именно такого решения я старался избежать. Надо сделать так, чтобы оно стало нашим, не моим,— так легче и честнее. Все остальное будет бесчестно и лживо, и я знал бы, что делаю нечто недозволенное, не имея на то никаких причин. Не испытывая даже уверенности в том, что мне следует так поступить.
Но с кем поговорить? Если мы соберемся все вместе, беглеца можно заранее считать принесенным в жертву. Мы будем бояться друг друга, станем говорить от имени тех, кто отсутствует, и тогда самое приемлемое — самое суровое. С одним говорить и легче и честнее, не пугает количество: чем меньше ушей, тем больше внимания к доводам разума. Но кого выбрать? Глухой Мустафа наверняка не в счет, мы равны перед богом, но любой посмеется надо мной, если я стану договариваться с ним, и не только потому, что он глух. Он настолько поглощен мыслями о своей невенчанной жене, от которой частенько убегает, ночуя из ночи в ночь в текии, и о пяти ребятишках, законных и тех, что со стороны, пожалуй, он и сам удивился бы, почему я спрашиваю о том, чего он не знает, а он многого не знает, и в этом отношении не далеко ушел от своих многочисленных детей.