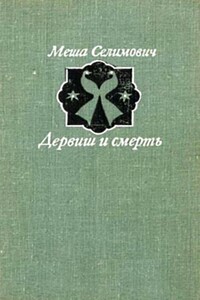Избранное | страница 14
Ведь против совести никто не спорит. Речь идет о другом: как жить по совести в конкретных обстоятельствах? Если бы вопрос стоял так: можно ли согласиться с миром, в котором нет совести? — тогда ответ был бы «на тему»: нельзя! Совесть — категорический императив, не выводимый из этого мира. Но здесь спрашивают другое: можно ли существовать по совести в этом мире? Ответ: по совести — нельзя, но… тут-то и заключено главное противоречие романа: нельзя, но… существовать надо… и совесть иметь надо… И тогда мы вправе спросить автора: откуда же у этого хитроумца появляется такая химера, как совесть?
Герой «Крепости» — «маленький человек». Но это «маленький человек», забывший, что он маленький. Абсурд? Да. Тот, кто забыл о том, что он «маленький», уже не маленький! Как же примиряются эти уровни в сознании Ахмеда Шабо? А он — маленький человек, время от времени забывающий, что он маленький. Совесть для него не самоцель, а средство спасения души в обстоятельствах, когда душой то и дело поступаешься.
Герой романа «Дервиш и смерть» занят другой проблемой; в центре этической системы романа — «императив действия», там ни о каком «выживании» речи быть не может; решившись действовать, герой знает, что он расплатится за этот «императив» не просто жизнью, но хуже: целостностью духа,— и он проходит до конца свой трагический путь. В «Дервише» есть спонтанная духовная решимость, в которой действие неотделимо от истины и вера неотделима от существования. В «Крепости» появляется осторожное сочувствие, которое дозировано: оно уже не может сжечь человека, оно должно согреть его, помочь ему сохранить душу в мире бездушия и бездуховности.
Ахмед Шабо и мыслит и действует не столько как участник событий, сколько как сторонний наблюдатель. И когда подталкивает Шехагу освободить из крепости Рамиза, и когда предупреждает об опасности Скакаваца, и когда изворачивается перед Авдагой на допросах. Заметьте: герой нигде не действует из своей собственной страсти, но везде незаметным толчком приводит в действие страсти чужие. И эти страсти — увы! — человеческие: пробойное жизнелюбие Османа Вука, свирепая жестокость Скакаваца, мстительность Шехаги. Даже Рамиза, этого рыцаря Справедливости, Ахмед Шабо в глубине души считает слепым безумцем; что же до холодного сыщика Авдаги, то Ахмед подозревает, что в его служебном рвении даже больше своеобразной порядочности, чем во всех страстях Шехаги, Вука и Скакаваца, вместе взятых… Вот и выходит, что Ахмед Шабо в своей борьбе против «химер» опирается на страсти, звериная низменность которых ему яснее, чем кому бы то ни было. И отсюда саморазъедающая горечь его сознания, и вечное «околодействие» и то половинчатое («выжить», но и «сохранить душу») состояние, которое парализует его полупоступки рефлексией, рефлексию же отравляет полупоступками. Точно сказано было о герое «Крепости» в югославской критике: Ахмед Шабо —