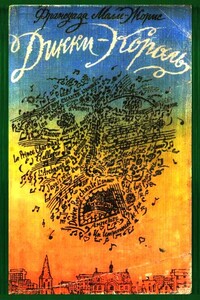Три времени ночи | страница 71
Всякое внимание к самой себе внушает дьявол. Бесконечное дознание выискивает, преследует и чуть ли не порождает зло в ее душе. Иногда у Элизабет возникает ощущение, что она виновата уже в том, что существует, и не ставит ли ей Клод, по сути дела, в упрек якобы принадлежащую ей жизнь, которую она желает присвоить себе.
— Меня толкнул дьявол.
— Вы его увидели, дитя мое?
— Я его почувствовала.
После секундного замешательства наверху, на стене, когда, возможно, кто-то из сестер уже замечает ее и спешит удержать, от возмущения, отчаяния (прыгнуть — значит спастись от себя самой, спастись от матери, от ее удушающей любви) Элизабет прыгает вниз. Так ли беспочвенно думать, что в решающий момент взявший верх героизм навыворот маленькой неистовой девочки заимствует силу в невидимом, что он берет начало не в душе десятилетнего ребенка, а вовне, в сокровищнице отчаяния, откуда самый слабый, обратясь за помощью, может черпать внутреннюю энергию. Если любовь никогда не утрачивается, и, даже лишившись любви, можно вновь ее призвать и черпать в ней свою силу, почему то же самое не может быть справедливо для отчаяния или гнева? И если десятилетняя Элизабет инстинктивно отыскала дорогу к этим тайным кладовым, вспомнила о ней, бросаясь с высоты трех-четырех метров, которые, сами собой представляя опасность весьма умеренную, в высшей степени олицетворяли собою смертельный грех, почему нельзя с полным на то правом сказать, что ее толкнул дьявол? Когда пораненная, оглушенная, у подножия стены (на жаре, в пыли, в окружении людей, восклицавших, будто они всегда говорили, что стена слишком опасна для детей и со стороны монастыря ее следовало бы обнести оградой) она начинает объяснять случившееся себе и другим, и ее поражает страх — ведь надо забыть этот краткий миг выбора, детского вызова, — ужас перед грехом, которого она не желала, сознательно не желала (это было бы просто невозможно) совершать, что еще она может сказать сквозь слезы — Элизабет, которая никогда не плачет, — к чему обратиться, дабы оправдать и вычеркнуть происшествие из памяти, кроме как к ссылке на толкнувшего ее дьявола, тем более что это вполне могло быть правдой?
У нее больше нет друзей. Анна, девочка «решительно невозможная», возвратилась в лоно семьи. Элизабет будет расти в одиночестве со стойким воспоминанием о стене, о дьяволе, со светлой мечтой о хижине отшельника, со страшными видениями о кресте. Душа ожесточилась, замкнулась, отрицая мгновение, служащее центром, стержнем и придающее даже епитимье, которую она на себя налагает, даже молитвам характер неповиновения. В эту воображаемую жизнь явственно входят юношеское самоуничижение и материнские придирки. Элизабет превратила Клод, как та своего мужа, в орудие покаяния. В вещь, во власяницу, в плеть для самобичевания. Элизабет даже сумела, подобно матери, окружившей себя служанками — сиротами, кривыми, хромыми, — найти восторженных почитателей, составлявших хор плакальщиц и толковательниц. Это были сестры-монахини, люди очень целомудренные, но немного любопытные, как это бывает в маленьком провинциальном городке, когда дело касается такого без сомнения одаренного, исключительного существа, как Элизабет.