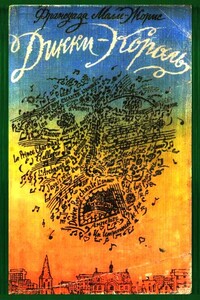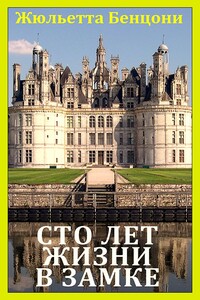Три времени ночи | страница 21
«Я желал бы совершить ужасный грех, — говорил Лютер, — чтобы посрамить дьявола и чтобы он понял, что я не числю за собой никакого греха, что моя совесть абсолютно чиста».
Это победа над воображаемым (а что же такое грех, как не воображаемое, которое не хотят облечь в плоть и кровь, оно — тщета) — тоже томление духа. Это благодать, кажущийся разреженным чистый воздух, которым трудно дышать. И вдруг тебя охватывает восторг, ты задыхаешься, прежде чем очиститься от греха. Анна делает шаг по направлению к часовне. Привычная тишина, густая, томящая, однако влекущая. Тусклый свет лампады под скорбящими статуями святых; обитель бедна, на нее не работают настоящие художники, фигуры святых, вышедшие из-под неумелого резца, похожи на грубых идолов, замерших в одури. Нарочитые жесты, запечатленные холодной рукой ремесленника, мученики, застывшие в трясине посредственности, ни малейшего движения души не могут породить эти старательно вырезанные колоды, украшенные простеньким орнаментом. Часовня напоминает маленький, изукрашенный ларец, детскую игрушку, безвредную, не имеющую ценности, и вдруг у подножия придела — неподвижная фигура, бледный овал, ледяное пламя: Мари де ля Круа. Она едва дышит, губы у нее посинели. Она почти бесплотна и окаменела, одеяние висит на ней, как на манекене. Пустота, опустошенность. В чем причина? В глазах пустота, она больше не прекрасна. Рука Анны касается напрягшегося плеча. Ничего. Ничего не ощущают дрожащие пальцы, кроме мертвой плоти, одеревеневших мускулов, неведомо как скрепленных костей, это скелет, машина. Анна отступает. Экстаз представляют благоуханным, тонущим в звуках небесной музыки, с улыбкой, нежнее ангельской, а тут — землистый цвет лица, труп, большая кукла, одетая монахиней, крепко сцепившая руки. Смешно, ужасно, страшно. Анне захотелось закричать. И в то же время ее охватил необъяснимый восторг. Что-то происходит, наконец, впервые с тех пор, как она родилась на этот свет, что-то происходит.
Какое чувство охватило ее: удивления, надежды? Она хотела бы убежать, но она остается здесь, ожидая, когда оживится взгляд, застывший, как стоячая вода, когда оживут мертвые глаза, лишенные влаги. И взгляд возвращается, и взгляд встречает взгляд. Решительный момент. Душа Анны, быть может, впервые обнажена. Готовая ко всем лишениям, ко всем низостям, ко всем благодеяниям. Она тоже опустошена, оцепенела. Обнажена самая чувствительная точка души, то место, через которое может быть нанесен уничтожающий удар. А выдержала бы Мари столь всесокрушающий удар? Проходит миг, прежде чем она придет в себя под этим взглядом. Затем зажигается огонек стыдливости, вполне естественной. Но, впрочем, что может быть естественного в партии, которая тут разыгрывается? Монахиня краснеет от того, что ее видели в таком состоянии, с совершенно обнаженной душой. И желание сохранить на мгновение, всего лишь еще на мгновение, в своем сердце этот сверхъестественный покой, который был ей дан, — это большое искушение; потому что покой, который, хотя бы на мгновение, она пытается сохранить, есть соблазн. И наконец, тут боязнь гордыни, которая сама по себе есть гордыня. Мари испытывает все это одновременно, она обнажает свою простоту, свою гротескную и великолепную наготу, она вновь становится немощной. Перед глазами взволнованного ребенка, который боится и жаждет чуда, она не может отважиться явить это чудо. Она убегает.