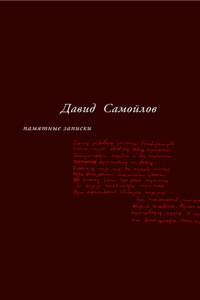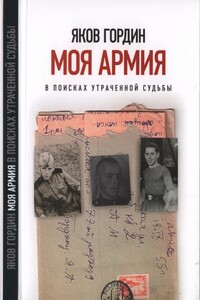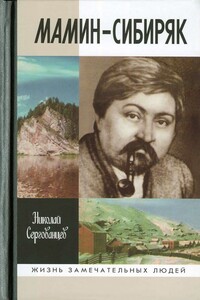Тем, кто на том берегу реки | страница 171
Я взял эпиграф из философской автобиографии Бердяева не только из-за его локального смысла, имеющего непосредственное отношение к работе Юрия Давыдова. Взаимоотношения между методами философа Бердяева и историософа Давыдова куда глубже. В программном предисловии к «Самопознанию» Бердяев декларирует:
«Между фактами моей жизни и книгой о них будет лежать акт познания, который меня более всего и интересует… Я пережил мир, весь мировой и исторический процесс, все события моего времени, как часть моего микрокосма, как мой духовный путь. На мистической глубине все происшедшее с миром произошло со мной»[76].
Уверен, что Давыдов мог бы подписаться под этим текстом, вычеркнув только слово «мистическая».
Давыдов написал очень много. Он был помимо всего прочего фантастически работоспособен. Но если исключить, скажем, увлекательные биографии русских адмиралов и некоторые ранние вещи, то главные его книги по сути своей – именно переживание «мирового и исторического процесса», как своего духовного пути.
Его романы по глубинному смыслу есть и самопознание писателя, его автобиография – и не только историософская. Он прямо дал понять это своим «Бестселлером», где сам Давыдов стоит в центре мирового круговорота и ему, как сказал Гоголь, «стало видимо далеко во все концы света». И – добавим – во все концы времен.
Осознавая единство исторического процесса и условность деления на эпохи, Давыдов в творчестве своем исповедовал принцип «сюжетного потока», перетекания материи главных его книг одна в другую: «Глухая пора листопада», «Две связки писем» – и, как реки в море, в «Бестселлер». И боковые протоки: «Завещаю вам, братья…», «На скаковом поле, около бойни…».
Давыдов, несмотря на свою демонстративную повадку старого грубоватого морского волка – флотская служба, усугубленная лагерным опытом, – был человеком обширной и тонкой образованности. Бердяева он, разумеется, читал. Но я выбрал этого мыслителя отнюдь не как единственно эталонную для Давыдова фигуру, но как один из примеров тесного родства писателя с фундаментальными явлениями русской нравственной культуры, экзистенциальной этики, так сказать. Можно уверенно говорить и о связи мировидения Давыдова с таковым же у Федора Степуна – достаточно вчитаться в «Бывшее и несбывшееся», историософскую автобиографию Степуна. Можно сопоставить историко-политическую ясность взгляда Давыдова с построениями Георгия Федотова.
По трезвости и жесткости взгляда на историческую реальность Давыдов ближе всего к Ключевскому. Его подход к материалу можно определить старым поэтическим термином «безочарование». В его интеллектуально-художественной системе нет места иллюзиям.