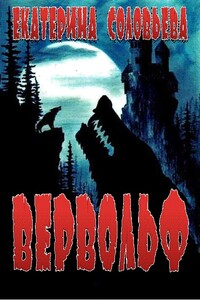Вася-василиск | страница 28
— Эй, молодой-красивый, дай погадаю.
Он стряхивал ее смуглую лапку — уйди, проклятая. Но она только крепче держалась и тараторила, заглядывая искоса, по-вороньи в глаза:
— Зачем так говоришь? Нет на мне проклятья, мой род чистый. А вот на тебе висит. Черное. Вижу, вот тут, — она провела пальцем по его шее, отчерчивая дугу от уха до уха. — Как петля над висельником. С таким долго не живут.
Он почувствовал, как побежала по спине вверх, к затылку холодная дрожь, и с силой пихнул цыганку в грудь.
— А мне и не надо долго. И того, что есть, не осилить.
— И это вижу. Но того не знаешь, что не одного себя погубишь. Своими руками сына убьешь. Совсем скоро. Года не пройдет.
— Иди к черту! Ну! — он вырвался и, пытаясь унять клокочущее сердце, пошел прочь. Почти побежал. Задевая прохожих и не оборачиваясь на их возмущенные реплики. В метро заметил, что дрожат руки. Пальцы никак не могли ухватить жетон и опустить в щель автомата. Сперва думал — от злости, влезла чертова баба в душу, взбаламутила до самого дна. А ночью понял — от страха. В нем эти два чувства всегда ходили в связке, заставляя на любую опасность бросаться с кулаками. В детстве он, задыхаясь от злой обиды, лупил по камням, подвернувшимся под его шаткие ноги, и избивал в отместку углы и пороги. Бил до кровавых ссадин, пока перепуганная бабушка не оттаскивала за шиворот. Визжа, он изворачивался в ее руках и молотил кулаками, не видя ничего вокруг, по бабушкиному мягкому животу, по коленям до тех пор, пока не спадала с глаз белая пелена. И вдруг выступали из тумана бабушкины руки, сухие и растрескавшиеся, как не политая земля, узловатые вены на уставших ногах и собственные распухшие от ударов руки, перемазанные грязью и кровью. Прояснения были всегда ужасны. Он, задыхаясь на этот раз от отчаяния и стыда, бросался извиняться, охватывал бабушкины колени и целовал, целовал, измазывая подол ее платья соплями и слезами раскаяния. Бабушка в ответ беззвучно плакала, поглаживая его по голове. Не от боли, хотя его крохотные кулаки и отставляли на ее теле вполне ощутимые синяки, а плакала от жалости, приговаривая:
— Бедный, Николенька, бедный! Как же ты будешь жить…
Так и жил. С приступами неуправляемой, слепой ярости, которая билась в нем, как дикая лошадь, выворачивая из грудной клетки сердце. По-прежнему бил стены и углы. Уже не от обиды, а вколачивая в неживое клокочущую злость. Неужели, когда-нибудь это вырвется наружу и обрушится на чью-то голову? Не может быть. Да и нет у него сына. Даже жены нет.