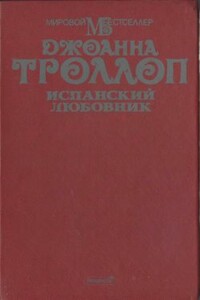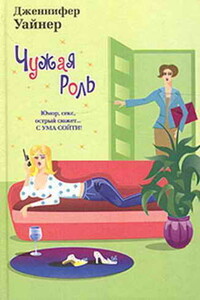Всем спокойной ночи | страница 21
Я чувствовала и ее голос, и восхищение моего отца, в котором ощущались любовь и желание. Я пока не могла выразить это словами. В десять лет я уже понимала достаточно, чтобы выскользнуть из гостиной после первой же арии. Закрывала дверь в свою спальню, с книгой в руках плюхалась лицом вниз, надевала наушники и, черт бы побрал «Блонди» и Пэт Бенатар, я все равно слышала их: звуки вибрировали в перегретом воздухе, а потом наступало молчание, более интимное, чем даже если бы я открыла дверь и застигла бы их врасплох. «Mi chiamano Mimi», — пела она свою любимую арию; партию, какую никогда не исполняла в театре, партию для лирического сопрано, а не для колоратуры, партию для певиц, которые могли брать самые высокие и эффектные ноты. И я точно знала, что мама мечтала каждый вечер петь Мими и красиво умирать на сцене.
Моя мать, Рейна, урожденная Рейчел Данхаузер, родилась в штате Иллинойс. Приехав в Нью-Йорк в двадцать один год, с двумястами долларами и всеми записями Марии Калласс, она сменила имя. У нее была полная стипендия в университете Джуллиарда, но эти детали своей биографии мама, рассказывая о себе репортерам, предпочитала не упоминать.
Мои родители встретились в Джуллиарде, где отец преподавал, а мама училась на последнем курсе.
Я много раз представляла этот момент: мой отец, холостяк тридцати шести лет, с уже редеющей шевелюрой, с добрыми карими глазами за очками, которые постоянно и криво сползали на нос. Он уже достиг потолка карьеры гобоиста. Всем известно, что есть певцы-суперзвезды, есть виртуозы-скрипачи, пианисты-миллионеры, собирающие полные залы на свои сольные концерты по всему миру, но никто никогда не слышал о бешеной популярности гобоиста, если он при этом не кувыркается по сцене или не играет, как Кенни Джи, чего мой отец не делал.
И Рейна, с ростом метр семьдесят пять, причем эффект усиливался с помощью восьмисантиметровых шпилек и растрепанных темно-каштановых волос; возвышающаяся над всеми, сжимающая кулачки, чтобы робко постучать в дверь репетиционной комнаты и нежным голоском вопросить, не мог бы он аккомпанировать ей. После пары рюмок я даже могу представить, как они занимались любовью под табличкой: «Слюну из мундштуков не вытряхивать!»
Я родилась летом, после первой годовщины свадьбы моих родителей. Через два дня, проведенных в больнице Ленокс-Хилл, они принесли меня на Амстердам-авеню — в многоквартирный дом довоенной постройки. Там, с незапамятных времен, обитали исключительно музыканты. Съемщики передавали квартиры друг другу как фамильную ценность. Фагот, уезжающий играть в Бостонский симфонический оркестр, оставлял свою квартиру с двумя спальнями в наследство новой второй виолончели; тенор, улетавший в Лондон, вручал свою студию помощнику концертмейстера в «Метрополитен-опера».