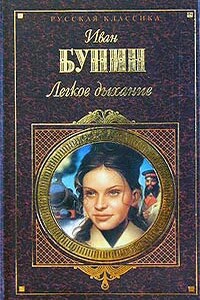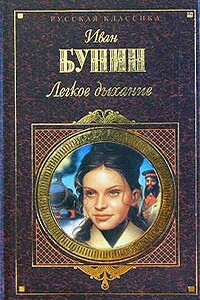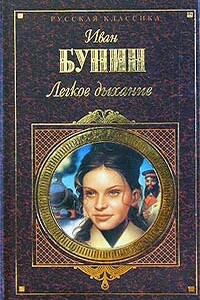Чернозёмные поля | страница 78
Когда они после своего сумасшедшего бега очутились на дна балки, перед плетнём пасеки, Суровцов с досадой заметил, что он дрожит, как в лихорадке, и не может произнести ни слова от нервного волнения. Надя молчала и старалась не глядеть на Суровцова; в душе её оставалось глубокое впечатление чего-то совершенно нового и совершенно неожиданного, словно в эти мгновения у ней раскрылись глаза на целый мир, ей до сих пор недоступный. Счастье или ужас были в этом новом чувстве, Надя не могла дать себе ясного отчёта. Перед нею в пустом воздухе стояли, не стираясь, эти вонзившиеся в неё тёмные глаза, полные опьяняющего огня, и пробегала эта палящая, чего-то ищущая улыбка.
Высокий и плотный малороссийский плетень с узким гребнем, ещё совсем свежий, окружал обуховскую пасеку. На запертой калитке был намазан кубовой краской раскольничий осьмиконечный крест под голубцом. Путники наши вошли через калитку во двор пасеки. Тихим, безмятежным счастьем повеяло на них от неё. На ровной зелёной лужайке, словно на опрятной тарелочке, стояли одиноко разбросанные дубы и лесные груши. Около сотни дуплистых ульев с черневшими от пчёл летками стояли врассыпную у корней деревьев и в их промежутках, покачнувшись в разные стороны. В своих соломенных колпаках и черепичках, опрокинутых им на голову, они казались издали семьёю старых больших грибов или толпою уродливых старикашек, гревшихся на летнем солнце. В самой середине пасеки, под корнем старого дуба, раскинувшегося шатром, чернела холодная дыра колодца, а в углу пасеки, тесно обставленной грушевыми деревьями, ютился курень пасечника, наполовину спрятавшийся в земле. Запах мёду и воску стоял в воздухе, как что-то осязаемое. Трава, воздух и деревья — всё было наполнено одним сплошным, не смолкающим жужжанием. Это поднялась утренняя работа пчёл. Жучка, привязанная у куреня, отчаянно заметалась на своей верёвочке, услыша стук калитки и увидя нашествие незнакомых господских фигур. Но на ожесточённый лай её нигде не отзывался голос хозяина.
— Не покусали бы нас пчёлы! — заметил Суровцов, отгоняя платком одну пчелу, настойчиво увивавшуюся кругом его уха.
— Ах, спрячьте платок, не махайте! Это хуже всего, — встревожилась Надя. — Станете махать, они все бросятся на вас. Самое лучшее — не дразнить их.
— Вон куда старик забрался, на дерево! — сказала Варя, отыскав его наконец глазами.
Иван Мелентьев стоял босиком на толстом суке дуба, в белых портках и белой длинной рубахе без пояса, задом к калитке. Лубочная сетка закрывала его длинным покрывалом, придавая его костявой фигуре фантастический вид. Его можно было принять за лешего или колдуна. Повесив слева себя роевню с раскинутою на дупло пастью и держа в правой руке сильно дымившую курушку из гнилого полена, старик неспешной опытной рукой огребал из дупла в роевню деревянным уполовником молодой рой. Пчёлы осыпали его голову с бессильным, но озлобленным жужжанием, а он вынимал ковш за ковшом из глубокого дупла и наполнял лубочную роевню чёрными гроздьями пчёл, насевших друг на друга. Молча любовались им Суровцов и его спутницы, зная, что старик не сойдёт с сука, пока не покончит этого важного дела. Обобрав рой и закрыв роевню, старик, не трогаясь с места, оглянулся назад.