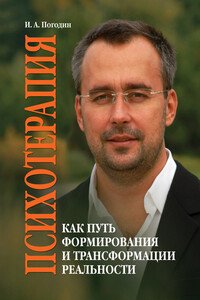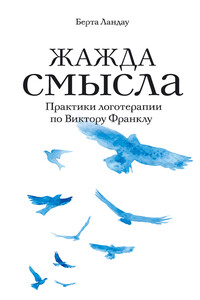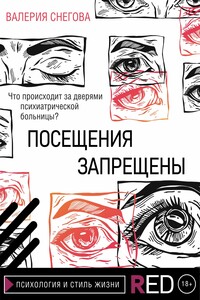Портретный метод в психотерапии | страница 36
Так прокладывается «тропа здоровья» (Фрейд), осознание своей болезни. То медленно, то быстро развиваются интеграция и реинтеграция личности, ее формирование или восстановление, умение управлять моторикой, речью, ориентация в себе самом и в окружающем мире, адекватное мышление. Собственно эстетические мотивы при обсуждении портрета сводятся к минимуму, внимание концентрируется на состоянии, которое в данный момент отражает глина или пластилин. С каждым сеансом больные все серьезнее относятся к своему скульптурному образу, часто они стремятся оградить портрет от неуместной или преждевременной критики; по этому поводу даже может возникнуть размолвка с родственниками.
Отождествление себя с изображением начинается задолго до появления истинного портретного сходства. «Идентификация не всегда относится к лицам, – считал К. Юнг, – но и к предметам» (Зеленский, с. 81). Можно привести немало подтверждений этой глубокой связи: при резких движениях работающего портретиста лицо больного иногда дергается; пациенты часто потирают ту часть лица, которую лепит врач, кривят рот, а при работе над глазами ведут себя так, будто соринка попала в глаз; они жалеют свой портрет, относятся к нему предельно осторожно. Тот же А. П. серьезно рассердился на четырехлетнего сына, показавшего на портрет со словами «это не папа», и на жену, которая высказалась по поводу «недоработанного» глаза. В. Р. создала целый ритуал общения со своим портретом: перед началом каждого сеанса она просила всех выйти из комнаты, потом звала их и сообщала: «Да, это я». Некоторые больные невольно пытались изменить выражение лица на портрете в области губ, бровей, чтобы передать врачу свое состояние. Были случаи, когда пациенты приезжали из другого города, с единственной целью – посмотреть на скульптуру.
2.5. Трансформация основного синдрома заболевания
В процессе работы над портретом раскрываются патологические переживания больных – не только актуальные, но и давние. Приведу отрывок из воспоминаний С. М.: «Мы делали бесконечно важное дело. Мы вместе делали его. Я уже начала болеть этой скульптурой. Я видела, как его руки – то нервно, то нежно – «колдуют» над портретом. Он был взволнован моим рассказом. А говорить хотелось много и все до самого донышка! Он слушал, и это вызывало доверие. Сейчас, во время работы, он мог спрашивать о чем угодно. Да ничего этого не могло быть в кабинете врача. Сейчас я ему верила. Верила!»