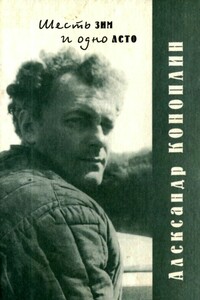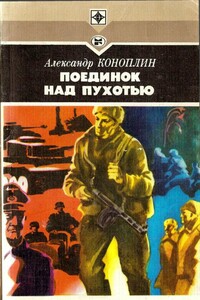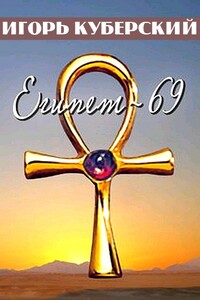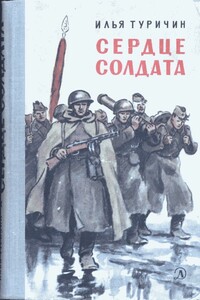Млечный путь | страница 38
Вторую половину пути я мирно спал, прислонившись к его плечу, и даже не слышал, как Валерка с дядей втащили меня, сонного, в дом и уложили на кровать. Проснувшись где-то в середине следующего дня, я увидел маленькую с ободранными обоями комнатку, коричневый от копоти потолок с разводами дождевых потоков и две кровати, на одной из которых спал я, на другой сидел еще не проснувшийся окончательно Валерка. В дверях стояло странное существо женского пола. Огромная, тучная фигура на толстых тумбах вместо ног, всаженная прямо в плечи голова с тремя подбородками, коротким и широким носом с проваленной переносицей, низким и тяжелым лбом, из-под которого, как мыши из норы, смотрели маленькие сонные глазки. Все нелепое сооружение венчалось копной рыжих волос, спадающих в беспорядке на едва прикрытые ночной рубашкой плечи. Заметив, что все проснулись, женщина спросила басом:
— Гладков за вас платить будет или как?
— Там сговоримся, — ответил Валерка, натягивая башмак. — Ты бы лучше поштевкать дала, не видишь, дошли?!
Женщина, постояв с минуту, медленно, как тяжело груженная баржа, повернулась и вышла. Заметив мой недоумевающий взгляд, Валерка усмехнулся:
— Не пугайся. На рожу она, верно, страшилище, но душа у нее добрая. Никогда нашего брата в беде не оставит. Через это и сама страдала не раз. Пошли что ли! Жрать охота — сил нет!
— А как ее зовут? — спросил я.
— Зови просто Голубкой, — ответил он. — А вообще-то она Голубкина. Матрена Константиновна Голубкина.
Приют Голубки
Так началась моя новая жизнь, полная самых невероятных противоречий. Жизнь, совершенно непохожая на прежнюю.
Раньше я никогда не остерегался и в любое учреждение заходил смело. Я был таким, как все. Разве что помоложе многих. Теперь меня ни на минуту не оставляло ощущение какой-то смутной вины перед людьми. Я никому не мог посмотреть прямо в глаза, не мог просто пройти мимо милиции. Мне казалось, что за мной постоянно следят. Это чувство не только не прошло со временем, — наоборот, день ото дня приобретало все более осмысленную остроту. В нем становилось меньше животного страха и больше обыкновенной осторожности. Это чувство можно было заглушить только вином.
После первой жестокой пьянки мне показалось, что я умираю. Тогда же я дал себе слово — если останусь жив, не возьму больше в рот ни капли спиртного. Но наутро хмель прошел, не осталось следа и от добрых намерений. Через неделю пьянка повторилась, и я в ней участвовал, но держался, по выражению моих товарищей, молодцом. Характерно то, что я, в отличие от других, не испытывал постоянной тяги к вину. Кроме того, мой организм научился быстро справляться с большими дозами спиртного. В то время, как все пьянели, я оставался трезв. Только очень большое количество выпитого могло свалить меня с ног.