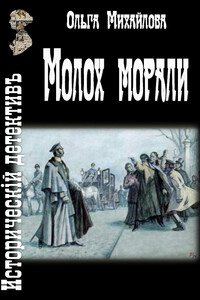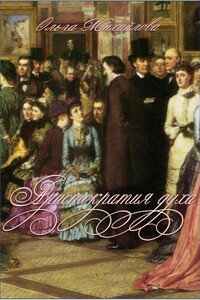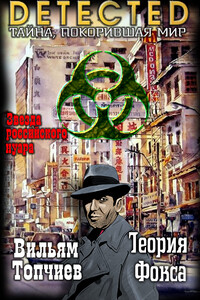Молния Господня | страница 79
— А почему — каракатицу? — Джеронимо навострил уши, явно заинтересовавшись лекцией Элиа.
Гильельмо Аллоро тоже начал прислушиваться к разговору.
— Как я наблюдал, клиентурой шарлатанок всегда бывают глупышки да уродки. Умная красавица найдет дружка и без колдовства.
— Ну, ясно. Это шарлатанки. Но Массимо Руджери мертв. И убил его не куриный помёт. И Белетта с детскими трупиками — не шарлатанка.
— Разумеется. Я же сказал — шесть из десяти. — Леваро почесал кончик носа, — Из четверых оставшихся две — и Белетта, судя по всему, из их числа — будут остервенелыми и обезумевшими потаскухами, чья промежность словно вымазана перцем и готовых похоти ради не то, что на сделку с дьяволом, а вообще на всё.
— Леваро! — Прокурор вздрогнул. Инквизитор обернулся к Аллоро. Гильельмо густо покраснел. — Лелло, мальчик мой, тебе такие вещи неинтересны… — и проводив его взглядом, продолжал, — прошу вас, Леваро, в присутствии моего канониста никогда не употреблять подобных выражений. И вообще не говорите при Джельмино о женщинах.
Леваро изумленно посмотрел на него, но, игнорируя этот взгляд, Вианданте оживлённо продолжил:
— Ну, а две оставшиеся?
Леваро почесал за ухом. «Две оставшиеся принимают заказы на убийства. И они, увы, не шарлатанки. Потому что в результате всегда имеется труп. Как это происходит — выше разумения. Никто никогда не видит эту тварь рядом с убитым. Никто не может объяснить, что убивает несчастного. Мы говорим — Дьявол, но Прародитель Зла, увы, неподсуден Трибуналу. Наказывать приходиться его орудие».
— Но и потаскухи, как я понял, не брезгуют убийствами?
— Не брезгуют, но убивают в эротическом исступлении и помешательстве, а не за деньги. Если этого различия между ведьмами не проводить, разобраться в происходящем трудно.
— А Гоццано разбирался?
— Да, но есть вещи… — Леваро откинулся в кресле, снова почесав кончик носа. — Женщина ведь для мужчины — и грех, и искус, и тайна. Это заложено Господом, чтобы мир был населён. Женщина… жизнь…Она проходит мимо и ты… оживляешься. В ней — легкость и трепет, упоение и обещание счастья. В каждой есть нечто, что манит, даже иногда в некрасивых есть что-то пьянящее, влекущее, неодолимое, — он улыбнулся странной, удивившей инквизитора нервной улыбкой. — И Гоццано… он ощущал над собой эту власть, возбуждаемое ими желание. И это, как мне казалось, его, монаха, пугало. И он ненавидел их за это. Я тоже чувствую над собой эту власть, но злюсь на себя. А вот вы, я смотрю, вообще этого не ощущаете. Почему?