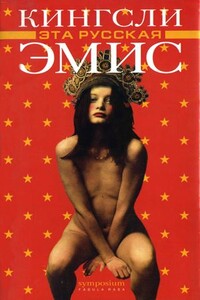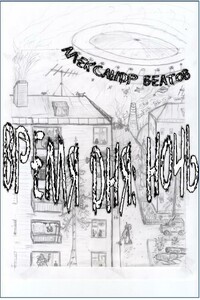Наш Современник, 2005 № 11 | страница 15
Я отыскал сторожа и попросил его открыть нам здание.
— Руками ничего не трогать, — предупредил он, — а так… глядите, сколько влезет.
Мы вошли в просторный и прохладный вестибюль. Очевидно, так же, как и мы, робко, осторожно, сюда входил в первый раз коротко стриженный гимназист в синем картузе с серебряными палочками над козырьком, десятилетний Ваня Бунин. Через пять лет он будет отчислен за неуспеваемость. Гимназические оценки его действительно были не блестящими. Так, средний балл за восемьдесят третий — восемьдесят четвертый учебный год составлял всего «два и семь восьмых», прилежание — «два», внимание — «три», манкирование — «четырнадцать». В третьем классе пришлось учиться два года. Очевидно, провидение берегло его для иного жизненного поприща.
Мы тихо ступали по тонкому слою опилок, которыми были посыпаны полы: в школе шел ремонт. Парадная «учительская» лестница с чугунными ступенями и чугунными же узорчатыми перилами широкими маршами шла на второй этаж. Нога гимназиста никогда не ступала по этим ступеням, во время учебного года одетым красной ковровой дорожкой. Для них в конце коридора высились лестницы поуже, каменные.
Налево за двойными дверями находился обширный актовый зал со сводчатыми потолками. Он был доверху забит снесенными сюда партами. И только где-то в углу из-за завалов виднелись верхушки каких-то стендов и бумажных листков, наскоро прикрепленных кнопками, без которых не обходится повседневная школьная обыденность. Мне захотелось взглянуть на них. Осторожно, стараясь не обвалить сложенные в беспорядке парты, я пробрался к тому месту, где все это бумажное богатство висело на стенах.
Три больших прямоугольных листа ватмана были посвящены, как и значилось на мемориальной доске, трем людям: Пришвину, Бунину и наркому Семашко. Разноцветной тушью на белой бумаге были выписаны даты и отчеркнутые короткой чертой пояснения к ним. Коротко, просто и… чуть-чуть по-детски безжалостно.
Дата рождения Ивана Алексеевича Бунина. Год поступления в «нашу гимназию». Первое напечатанное стихотворение в журнале «Родина». Работа статистиком в Полтаве. Работа в «Орловском вестнике». Знакомство с Чеховым. Публикация первого рассказа «На край света». Участие в литературном кружке «Среда». Знакомство с Горьким, Андреевым, Куприным. Перевод «Гайаваты». Избрание в почетные академики. Написание «Деревни». Написание «Суходола».
Я опускал взгляд все ниже, подбираясь к середине этого хронологического списка, разграфленного цветной тушью на плотном листе ватмана. Я как будто чего-то ждал. И боялся этого чего-то. И вот наконец взгляд упирается в красные цифры: «тысяча девятьсот семнадцатый — тысяча девятьсот двадцатый годы». Дата отчеркивается аккуратной синей черточкой ровно в столбик с предыдущей над нею. И дальше короткое пояснение черной тушью: «Непонимание Октябрьской революции. Эмиграция». Я долго смотрел на эти аккуратно выписанные слова, несколько раз перечитывая их, точно написаны они были на каком-то иностранном языке: «Непонимание Октябрьской революции». Точка. Внутри меня все как бы восставало против смысла, заключенного в этой простенькой фразе. Хотелось спорить с кем-то, возражать, протестовать против этой бездумной легкости, с которой мы подходим к оценке человеческих судеб.