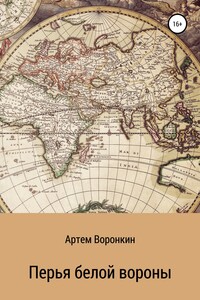Войлочный век | страница 126
И роясь в чулане, среди каких-то рогож и старых лыжных палок, которые тоже никто не решался выбросить, в простенке между сундуком и стеной я нашарила медведя, вернее, то, что от него осталось: деревянный остов, оклеенный жесткой шерстью, одна-единственная верхняя лапа, пуговица вместо одного глаза, а вместо второго – просто висящие черные нитки.
Я схватила его, я прижала его к себе, стиснула пыльное шерстистое тельце, зажмурилась, чтобы не залить его внезапно хлынувшим потоком слез, и стояла там, в духоте, тесноте и полутьме, слыша только бешеный стук своего сердца. А может быть, медведева сердца, не знаю.
Это с чем сравнить? Это, наверно, так: вот у тебя дети, им уже сорок лет, и ты привыкаешь к этому и с этим живешь; а потом ты забираешься в чулан, и там, оказывается, вот он – твой ребенок, каким он был когда-то, – полуторагодовалый, еще не говорящий, пахнущий кашкой и яблочком, зарёванный, потерявшийся и найденный, все эти десятилетия ждавший тебя в простенке, за сундуком, не умея позвать, и вот дождавшийся.
Я забрала его на свою новую квартиру. Все там было оскорбительно новое, в смысле – чужое, купленное у антикваров и старьевщиков, принадлежавшее раньше другим людям и не привыкшее к моим стенам. Я, как могла, смягчала эти чужие комоды и буфеты мамиными коробками и тряпками. Медведя я положила на кровать, не знала, что с ним делать.
Ночью я спала, обняв его, и он слабо обнимал меня своей единственной лапой. Ночь была летняя, белая, не ночь, а тоска, кисея с мутными сумерками. От медведя пахло пылью, пылью, старостью, увечьем, десятилетиями, тысячелетиями. Открывая ночью глаза, в подводном свете белой полуночи я видела черные нитки, висевшие из его бедной глазницы. Я гладила его деревянную голову, она была в шрамах. Трогала его уши.
Нет, думала я, так нельзя. Есть такой рассказ у Фолкнера, – «Роза для Эмили». Про женщину, которая отравила своего возлюбленного, чтобы он от нее не ушел, а потом заперлась с ним в своем доме и не выходила оттуда сорок лет и до смерти. А после ее смерти нашли комнату, где лежал в позе любви скелет в сгнившей ночной рубашке, а рядом, на примятой подушке – длинный седой волос.
Утром я уехала в Москву. А когда вернулась через месяц, медведя уже не было. Ни на кровати, ни под кроватью, ни в шкафах, ни на антресолях. Нигде. Вообще нигде.
ВДНХ
Странное место ВДНХ – не застывшее во времени, не выпавшее из него, а как-то зависшее, застрявшее между его пластами (если, конечно, пользоваться этой расхожей метафорой, предполагающей, что у времени есть какие-то «пласты», будто коржи у торта).