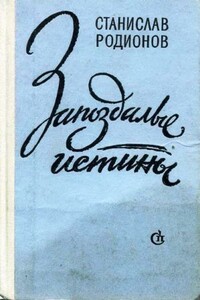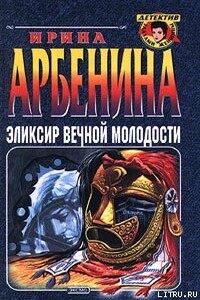Родимое пятно. Частный случай | страница 13
Тот обычный отцов поцелуй Геннадий Акимович и сейчас иногда чувствовал на лбу — словно горячая, геройская красная звезда. А тогда, со смертью отца, ушли из его жизни стыдливая жалость и вечное ощущение вины перед всеми, толкавшее на дикие выходки и бесшабашную смелость. Остались взамен тяжелые, если не увернуться, подзатыльники старшей сестры, страшно ругачей, и нытье младшего брата, плаксивого попрошайки удовольствий и ценностей — деревянного кинжала, хорошей резинки на рогатку, змея, который летает… Мать вкладывала ума отцовским ремнем, и всегда обоим. И они дружно выли, размазывая по щекам обильные слезы, такие горькие, будто через них выходила дымная горечь сумеречных костров на свалках и пустырях, когда с гиканьем прыгали всей ватагой через высокий огонь или отливали свинцовые биты для игры в расшибок. Изредка попадало им и за школьные двойки; Генка загодя каждый раз гадал — минует их кара или нет; для этого он старался думать как мать — о подсолнечном масле и рыбьем жире, о копченых ребрах и перешиваний какой-нибудь одежки в совсем новую. Припоминал сначала плохое, потом хорошее, что повлияло бы на ее настроение, и, бывало, успокаивал братишку: «Да не скули ты! Сегодня же дядя Петя придет; лишь пожалится ему на нас — и апсай», — так у них тогда произносился футбольный «офсайд». Генку взяли во вратари за бесстрашные падения при добыче арбузов.
На длинном косогоре от Земляного моста к бору машины еле тянули по булыжной дороге. В бору старшие ребята забирались в кузов и скидывали съедобные продукты, а младшие подбирали — и с глаз долой. Картошку пекли сами, капусту, свеклу, морковку делили по справедливости. Матерям говорили: с машины упало… Но арбуз-то не бросишь — расколется, и младшим полагалось любой ценой поймать его. Генка самозабвенно бежал возле машины, растопырив руки. И вот летит сверху арбуз как булыжник. Генка мягко принимает его на свою фанерную грудь, обхватывает руками и мужественно шлепается ягодицами на пыльную обочину. Вскакивает, тащит добычу в сосенки — и опять со всех ног за машиной, по три штуки успевал поймать. Насладившись арбузами, мчались купаться, и на берегу Серпа Генка, устав загорать и возиться с товарищами, углублялся в изучение цыпок на руках, чирьев на ногах и синяков на своем худосочном, в грязных, несмываемых разводах, теле. Лишь звезда на его пилотке всегда блестела как новая.
Как новая всегда блестела и лысинка дяди Пети, который был то ли дальним родственником, то ли близким соседом; он щекотал «мальцов» и громоподобно учил жить — воспитывал по просьбе матери. Братья беззвучно дергались от щекотки и деловито уплетали его приношения — торт и арбуз. Мать доставала бутылку с красивой картинкой фрукта или ягоды, и получался у них маленький домашний праздник, даже пели иногда вместе про Щорса или про тачанку. Обычно дядя Петя ударялся в воспоминания о взаимодействии фронтов на участке от Белого до Черного морей, а когда разрезали арбуз — красный, мясистый, как его лицо, то он всегда кричал: «Что-что, а выбирать я умею!» И впрямь — этот, выбранный, почему-то всегда был сочнее и слаще тех, машинных.