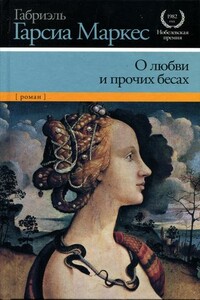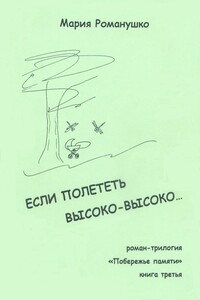Я здесь не для того, чтобы говорить речи | страница 35
Невозможно было не думать о том, что они имели другое происхождение. Обычно дети военных становятся военными, они живут в своих кварталах, собираются в своих казино и клубах, их миры за закрытыми дверями. Редко можно было встретить их в кафе, еще реже в кино, они были окружены таинственным ореолом, позволявшим узнавать их даже одетыми в гражданское. Сам характер службы сделал их кочевниками, и это дало им возможность узнать всю страну до ее самых отдаленных уголков, изнутри и снаружи, как ни одному другому соотечественнику. При этом по их собственной воле у них нет права голоса. Желая иметь хорошие манеры, я вызубрил воинские звания и выучился распознавать их знаки отличия, чтобы не ошибиться в приветствии, и мне понадобилось больше времени, чтобы выучить их, чем чтобы потом забыть.
Некоторые друзья, знающие эти мои предрассудки, уверены, что этот визит — самое странное, что я сделал в моей жизни. Напротив, моя навязчивая идея о различных видах власти является больше чем литературной — она почти антропологическая — и живет с тех пор, как мой дедушка рассказал мне о трагедии Сьенаги. Я много раз спрашивал себя, не отсюда ли идет тематическая линия, проходящая через все мои книги. Через книги: «Палая листва» — о выздоровлении народа после исхода с банановых плантаций, «Полковнику никто не пишет», «Проклятое время» — размышления об использовании военных в политических целях, через образ полковника Аурелиано Буэндиа, писавшего стихи в разгар своих тридцати трех войн, и Патриарха в возрасте двухсот с лишним лет, никогда не научившегося писать. От первой до последней из этих книг — и надеюсь, что во многих будущих — везде присутствует весь спектр вопросов о характеристике власти.
Однако я полагаю, что начал по-настоящему осознавать все это, когда писал «Сто лет одиночества». Больше всего меня тогда вдохновляла именно возможность исторического предъявления прав жертвами трагедии вопреки официальной истории, провозгласившей ее победой закона и порядка. Но это оказалось невозможным: я не смог найти ни одного прямого или косвенного свидетельства о том, что убитых было более семи человек и что масштаб драмы не соответствовал тому, что жил в коллективном сознании. Впрочем, все это не преуменьшало значения катастрофы для страны.
Вы можете с полным основанием спросить у меня, почему вместо того, чтобы рассказать о ее истинном масштабе, я все преувеличил до трех тысяч убитых, которых перевозили в поезде из двухсот вагонов, чтобы сбросить в море. Причина тому, поэтический ключ к разгадке, проста: я работал в том измерении, где эпизод банановой бойни был уже не ужасным историческим фактом, а событием мифического масштаба, где жертвы не были одинаковыми, а палачи не имели ни лица, ни имени и, возможно, никто не остался невиновным. Из этого преувеличения мне явился старый Патриарх, тащивший свою одинокую кобылу во дворце, полном коров.