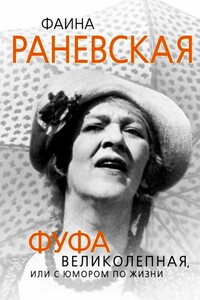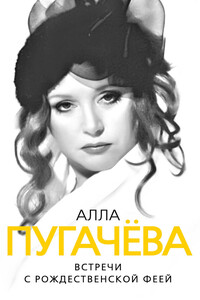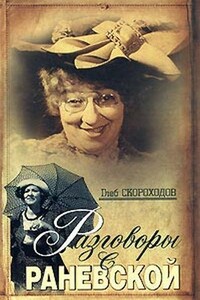Три влечения Клавдии Шульженко | страница 43
В ту пору, когда ко мне обратился Яков Борисович Скоморовский, положение несколько изменилось. Полноценная песня пробивала себе дорогу в концерты джаз-оркестров. И все-таки пришлось задуматься, а возможно ли программу джаза строить в основном на песне?»
Джаз Скоморовского переживал в 1937 году кризис. Талантливый трубач, один из организаторов и музыкальных руководителей Теаджаза Утесова, создавший свой высокопрофессиональный оркестр, испытывал, как и его коллектив, острый репертуарный голод. Бедственное положение, в которое попал джаз Скоморовского, было типичным для многих ансамблей.
Не случайно на дискуссии о джазе, прошедшей в Ленинградском отделении Союза советских композиторов в том же году, тезис о необходимости создания джазового репертуара был самым острым и звучал во многих выступлениях.
Уже никто не заявлял, что джаз не нужен. Противников джаза (во всяком случае, на дискуссии) не было, и бой с ними не состоялся.
«В танго, фокстроте, во всех видах танцев, которые были упрочены культурой джаза, есть много элементов фольклора, есть много элементов таких, которые могут быть использованы в нашей развлекательной музыке. И поэтому я не считаю опасным ставить вопрос о создании советского фокстрота, о создании советского танго», – говорил в своем докладе П.А. Вульфиус. «Джазу буржуазному должен быть противопоставлен джаз советский», – настаивал М.С. Друскин. С ними никто не спорил. «Так дайте же нам скорее произведения советских композиторов для джаза!» – звучало единодушное требование «практиков» джазовых ансамблей.
Их нетерпение и беспокойство было понятно. Репертуар оркестров под управлением влюбленных в джаз Б. Ренского, С. Самойлова, А. Варламова, А. Цфасмана и других на девяносто процентов состоял из произведений зарубежных композиторов. Лучшие из них – Гершвин, Берлин, Юманс, Элингтон, Портер, Хенди – давали возможность демонстрировать виртуозную игру. Но случалось (и, увы, нередко!), что программы заполнялись пошловатыми мелодиями шлягеров, услышанными по приемнику и записанными «по слуху» собственными аранжировщиками.
Иные коллективы слепо копировали манеру зарубежных коллег – говорить о собственном лице тут не приходилось. Порой копия в джазе, стремившемся бездумно перенести в свою практику чуждую ему манеру игры, производила комическое впечатление. Не о таком ли оркестре оставил запись в своих «Записных книжках» И. Ильф: «Джаз играл паршиво, но с громадным чувством, и иногда сам плакал, растрогавшись… При исполнении «Кукарачи» в оркестре царила такая мексиканская страсть и беспорядочное воодушевление, что больше всего это походило на панику в обозе».