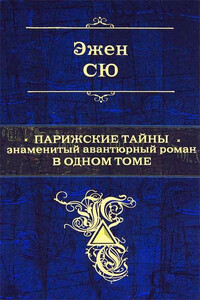Русская канарейка | страница 32
Странно только было, что старик Морковный почти не вспоминал Зверолова, как это было бы понятно и очень даже приятно Илье. Только напоследок, когда прощались у лестницы, ведущей к двери-люку, распахнутому в желтоватую тьму августовской ночи, сдержанно проговорил: – А ты другой…
– Что – другой?
– Другой, чем он. Ты смиренный. Тихий. Это в нашем терпеливом деле гораздо лучше. Николай – тот буйным был, и во всем – буйным: в жизни, в канарейках… в женщинах. Я ж говорил ему тогда: как ты мог, старый подлец, – девочку, девочку! – в себя влюбить…
Вгляделся в полутьме в обомлевшее лицо Ильи и запнулся:
– А ты что… не знал, выходит?
– Не понимаю… – пробормотал юноша. – О чем – не знал? Вы что… вы…
– Ну так дочка же… несчастная девочка этого садового егеря…
Илья аж в перила лестницы вцепился, чтобы на ступеньку не осесть, – так тело огрузло. Вмиг пронеслось: кружение молочной пенки облаков на высоких небесах, обнаженные сильные плечи и грудь Зверолова с печатным пряником верблюжьего копыта, его мускулистые руки, ловко затягивающие узлы на скользящей петле. И – бессильными плетьми висящие руки Абдурашитова на похоронах дочери.
«Опустел наш сад, вас давно уж нет…»
– Вишь, как оно выходит, если буйствовать, – вздохнул старичок Морковный. – Хотел он ее отпустить своей смертью, а оно вон как повернулось: это она своей смертью его догнала и уже не отпустила…
С того вечера он часто заглядывал к старику, иногда в неделю раз, а бывало, и чаще. И всегда находилось о чем потолковать, тем более что Илья только приступал к дотошному постижению канароводного дела. Морковный же был – неутомимый рапсод своей страсти. Глубокий старик, слабеющий с каждым днем, он оживлялся только на теме жизненного промысла: на канарейках. У него и голос становился тверже, и рука будто меньше тряслась.
Сидели за гренками целыми вечерами, потом еще минут сорок договаривали, стоя у лестницы под распахнутой в небо дверью.
И однажды Илья решился.
– Федор Григорьич, я вот что хотел… Только не думайте, что непременно обязаны рассказать, но вдруг вы что-то… может, слышали, пусть даже сплетни, мне все равно! А если нет, то простите и забудьте.
Они опять прощались, стоя под распахнутой дверью. Высоко вокруг лампы вилась золотая мошкара. Илья, как в медленном сне, пытался вымолвить, произнести слово, реже которого он вряд ли что в жизни произносил. Наконец, выдохнул:
– Моя мать. Вы, случайно, не знаете о ней?
Морковный помолчал, рассматривая лицо Ильи, будто сверяя его черты с чертами кого-то забытого, отринутого, возможно, и преступного.