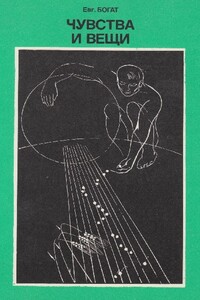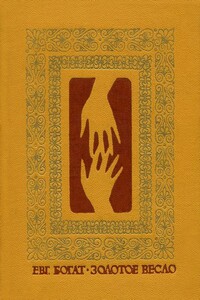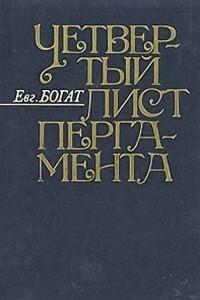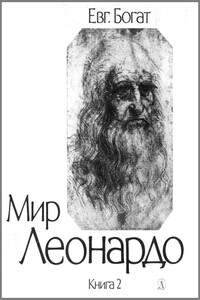Бескорыстие | страница 47
Беседуя с Савиным, все время поражаешься одной его особенностью: он как бы не допускает мысли, что когда-нибудь будет мир без него.
А между тем однажды он застал мир как бы без себя. В сорок втором вернулся в Москву из госпиталя и получил повестку, что убит и похоронен; было точно указано место — маленькая деревня близ Ржева. А еще раньше о том, что его нет в живых, узнали в военкомате и на заводе. Появляясь в старых местах, он видел лица, в которых отражалось все: и то, что он умер, и то, что воскрес.
А вышло это вот почему: на войну он ушел с любимой в юности книгой — романом Мериме «Хроника времен Карла IX». По-мальчишески рассчитывал, что будет время для чтения. В сорок первом под Ржевом времени на Мериме не оставалось. И компактная, удобная по формату книга стала вместилищем всех документов. Когда его тяжело ранили и унесли, Мериме выпал, остался лежать на земле. Потом ту деревню разбомбили, потом нашли книгу, раскрыли, увидели документы…
Хорошо, что есть люди, которые уходят на войну с дорогими сердцу книгами, люди, которые показывают поселковым мальчишкам небо в алмазах и любят жизнь, планету с ее горами, детьми, дорогами, исчезающими птицами, новой техникой, равной по масштабам горам, и отдают себя максимально, чтобы защитить и развить в этой жизни, на этой планете все, что делает их достойными человека.
Поэзией любовь к жизни была во все века. И остается ею навечно. Но в наше время все более мощно входит в любовь к жизни и этика: чувство ответственности за красоту мира, за будущее детей. Этика не убивает поэзии — она углубляет ее. Так же как поэзия обогащает этику. Более того, из переживания чуда жизни и родилась настоящая доброта.
Ощущение бесконечной ценности жизни и человека лежит в основе этики революционеров. За этим ощущением идет желание видеть мир построенным «по законам красоты», в котором ничто не уродовало бы ни человека, ни жизнь. Не менее естественно выкристаллизовывается и потребность в революционном действии. А потом рождается и деяние, обновляющее мир. Силу этой логики ощущали на себе большинство великих революционеров, но может быть, наиболее полно — Чернышевский, Ленин, Дзержинский, к которому мы часто обращаемся в этом повествовании.
Вот Феликс Эдмундович, двадцатичетырехлетний революционер, пишет сестре из тюрьмы о том, как из борьбы «вырастает чудесный цветок, цветок радости, счастья, света, тепла…». Это, разумеется, образ. Но он любит и подлинные, настоящие живые цветы и горестно сетует: «Мне только недостает красоты природы, это тяжелее всего». И радуется как ребенок, когда в его камере оказываются розы: «Одна, розовая, — пишет он брату, — почти совсем уже увяла, но зато две бело-желтые, с зеленоватым оттенком… ласкают мой глаз, я любуюсь ими…»