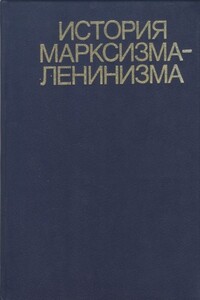Русская философия смерти | страница 7
Этого эстетического такта не хватило В. С. Печерину, автору мистерии «Торжество Смерти» (1837), который знал только один способ личного противостояния мировому Хаосу: эстетизацию жизни, организованной как «роман»>12. Это не помешало монаху иезуитского Ордена Искупителей назвать «детскими баснями» Воскресение мертвых.
Трагическая акцентуация смерти предпринята Ф. И. Тютчевым, автором монументальных свидетельств изображающей смерти. За чтением «Коринны» Ж. де Сталь (где смерть также подана в образах цветущей земли и усладительной вечеровой прохлады) пишется стихотворение «Mal’aria» (1830):
Классический репертуар романтического Танатоса («смерть-сон», «amor fati» и т. п.) Тютчев осложняет темами смертоносной любви поэта-небожителя и эротического суицида.
Подлинным культом смерти отмечена проза Н. В. Гоголя. Философская критика XX в. (В. В. Розанов, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. В. Зеньковский, Н. А. Бердяев, а вслед за ними В. В. Набоков и А. Д. Синявский) подвергла анализу особое пристрастие к изображению мертвецов, всяческой нежити, пеструю демонологию раннего и сплошь погруженную в Загробье действительность зрелого Гоголя. Логика абсурда в «Ревизоре» и поэтика гротеска в «Мертвых душах» порождают фантасмагорию монстров, князей тлена, зооморфных чудовищ. Живое и мертвое меняются местами. Когда в «Мертвых душах» умирает прокурор, «тут все узнали, что у него точно была душа». «Религиозная драма Гоголя», о которой так много толковали в начале века, может быть, и впрямь связана была с внутренним ужасом автора перед созданным его воображением (и онтологически утвержденным в реальной действительности) миром омертвевшей жизни. К этому следует прибавить, что гоголевский театр теней не стал эпосом Смерти и ее, решающим судьбу мира, торжеством. Зло в Гоголе захлебнулось собственным избытком. Несмотря на жанровую неудачу плутовского романа об авантюристе, в тексте великой книги нашли свое место и раблезианская роскошь пиршественных образов, и историософия надежды (образы «пути»), и то, что М. М. Бахтин назвал «катарсисом пошлости».
На Гоголе русская культура почти исчерпала позитивные попытки понять смерть в пределах эмпирии. Метафизическую глубину смерти Гоголь интуитивно предполагал; на уровне литературного текста его гипотеза выразилась в аспекте масштаба: все вокруг безнадежно мертво, и я рожден в мертвый мир.