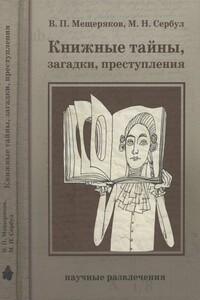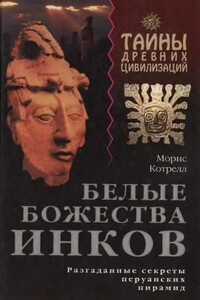Мир по Эйнштейну. От теории относительности до теории струн | страница 44
Подробное обсуждение всех этих вопросов заняло бы слишком много места, и мы ограничимся здесь лишь кратким рассмотрением некоторых основных моментов{55}. Но прежде чем вдаваться в детали, заметим, что критические замечания, сформулированные ниже, нисколько не принижают важности вклада Пуанкаре. Цель их заключается в том, чтобы попытаться охарактеризовать основные различия между идеями Пуанкаре и Эйнштейна. Если бы до 1912 г., т. е. даты преждевременной смерти Пуанкаре, встал вопрос о присуждении Нобелевской премии по физике за открытие теории относительности, то идея разделить эту премию между Лоренцом, Пуанкаре и Эйнштейном выглядела бы вполне уместной. Каждый из них сделал свой вклад в конечную формулировку теории.
Тремя основными аргументами тех, кто превозносит вклад Пуанкаре, являются: (i) метод синхронизации движущихся часов путем обмена электромагнитными сигналами (обсуждавшийся Пуанкаре в 1900 и 1904 гг.); (ii) тот факт, что (уже в сентябре 1904 г.) Пуанкаре говорил о некоем «принципе относительности» и ставил его в один ряд с другими основными принципами физики; и (iii) тот факт, что он ввел математическую структуру пространства-времени (в июле 1905 г.). Мы уже касались первого момента в предыдущей главе и пришли к выводу, что внимательное чтение текстов Пуанкаре показывает, что он никогда не обдумывал и даже не выводил формально эффект «замедления времени», представляющий основную концептуальную новизну эйнштейновской теории относительности. Что касается второго момента, то два следующих факта свидетельствуют о серьезном отличии подходов Пуанкаре и Эйнштейна к статусу допустимого «принципа относительности». Во-первых, в статье, опубликованной в 1908 г., при обсуждении последних экспериментов Кауфмана по динамике электронов на больших скоростях, опровергающих прогнозы релятивистской динамики Лоренца (и Эйнштейна), Пуанкаре неожиданно отказывается от своей уверенности в справедливости принципа относительности:
«[Эти опыты] подтверждают теорию Абрагама. Принцип относительности, таким образом, мог бы и не иметь того строгого значения, которое ему пытаются придать; у нас могло бы не остаться никаких оснований полагать, что положительные электроны лишены реальной массы, так же как и отрицательные электроны»[3].
Обратим внимание, что курсив принадлежит Пуанкаре и что теория Абрагама представляла на тот момент альтернативу теории Лоренца, при этом не удовлетворяя принципу относительности. Мы также приводим последнюю часть этой фразы Пуанкаре, поскольку, несмотря на ее туманный смысл в глазах современного читателя, она показывает, что Пуанкаре находился в рамках определенного образа мысли, совершенно отличного от эйнштейновского. В том или ином виде этот образ мысли Пуанкаре разделяли и другие «оппоненты» Эйнштейна, такие как Лоренц, Абрагам, Кон и Ланжевен. Суть его состоит в попытке положить в основу электродинамики движущихся тел определенный набор предположений о микроскопическом устройстве материи (и, возможно, эфира). С этой точки зрения, любой «принцип относительности» мог бы возникнуть, скорее, не как базовый постулат, а как некоторый результат, подлежащий обоснованию исходя из каких-либо гипотез о структуре материи и действующих на нее сил.