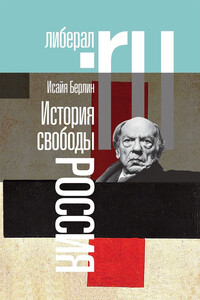Северный Волхв | страница 55
Тесная связь между представлениями о сотворении мира и сексуальностью – и, соответственно, между двумя образными системами, религиозной и сексуальной, – достаточно известна. Подобно Блейку, Хаманн ассоциирует разум с подавлением. Сам он был человеком чувственным и гордился тем, что живет полной жизнью. Единство теории и практики для него не было положением абстрактным: ему органически претило все, что ограничивало человеческий дух, любые правила и регламентации как таковые. Очень может быть, что они действительно необходимы – но в таком случае это необходимое зло. Правила, писал он, обращаясь к своему излюбленному смысловому полю для производства метафор, подобны девственным весталкам: только благодаря тому, что одна из них была изнасилована, возник Рим[152], и если правила не нарушать, то и плода никакого не будет; без правил нельзя, равно как и без нарушения правил[153]. Хагедорн заявляет: «Мы не судим художников по исключительным случаям»[154]. Хаманн отвечает: «Мы же, бедные читатели, именно так и делаем: для нас всякий шедевр в зале искусств есть случай исключительный. Тот, кто не в состоянии произвести на свет ничего исключительного, не может творить шедевры»[155].
Подобного рода пассажи, кропотливо собранные Рудольфом Унгером, специалистом по Хаманну, обладающим поистине невероятной эрудицией, обычно принято считать всего лишь симптомами богатого и чувственного воображения нашего автора. Но за ними скрывается нечто большее: страстный протест против просвещенческого рационализма, который, с его точки зрения, был чистой воды безумием, против того факта, что, невзирая на весь свой хваленый эмпиризм, философы-просветители не уделяли должного внимания иррациональной стороне человеческой души, ни в самых привычных, ни в аномальных ее проявлениях. Авторы эротических текстов – Кребийон, Парни и им подобные – опошляют человеческие страсти еще того пуще; в те времена к творениям маркиза де Сада не принято было относиться всерьез; не привлекали к себе особого внимания и замечательные экскурсы Дидро в область сексуального поведения – даже среди philosophes. Руссо, фигура куда более влиятельная, к подобного рода материям относился вполне по-ханжески, с этаким нездоровым пуританизмом. Если он и брался таковые описывать, причиной тому служила его неудержимая страсть к исповеди, стремление в очередной раз привлечь внимание к самому себе и к неизбежным слабостям собственной человеческой природы – а также к таким своим неизменным качествам, как страстное стремление к искренности и свобода от всяческого ханжества. Хаманна, а вслед за ним и Блейка следует числить среди тех немногих писателей доромантической эпохи, кто воспринимал представление о потребности человека в безграничном самовыражении как составную часть естественного человеческого стремления к свободе и писал о подобных вещах без волнения и страха, с глубоким и заинтересованным вниманием к проблеме. Такие писатели, как Гёте и Шиллер, Шелли и Вордсворт, вплоть до Гюго, в конечном счете обязаны своим освобождением – с точки зрения как моральной, так и эстетической – из тенет фанатического рационализма образца восемнадцатого века этому бунту против людей, отрицавших неизменность человеческой природы, бунту, который в данном конкретном случае принял религиозную форму. Самыми принципиальными врагами для Хаманна были Кант и Гельвеций. Канту он ставил в вину «застарелую, холодную наклонность все и вся поверять математикой»