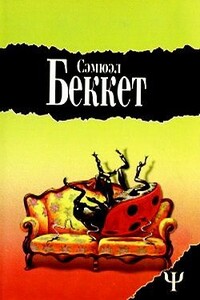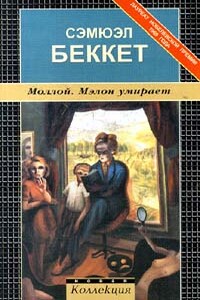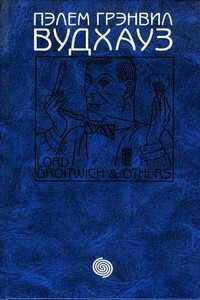Первая любовь | страница 38
– Здесь все. – Все же это не могло быть тем же всем, что прежде. – Желаете? – Нет, но я сказал да, чтобы его не раздражать. Он предложил мне обмен. – Отдайте мне шляпу. – Я отказался. – Какая горячность!
– У меня ничего нет.
– Поищите в карманах.
– У меня ничего нет, – ответил я. – Я вышел без ничего.
– Отдайте мне шнурок. – Я отказался. Долгое молчание. – А что, если вы подарите мне поцелуй? – Я знал, что поцелуи витают в воздухе. – Можете снять шляпу? – Я снял шляпу. – Наденьте, вам лучше в шляпе. – Как человек здравомыслящий, он призадумался. – Ну же, поцелуйте меня и покончим с этим.
А он не боялся, что я отвечу на его ухаживания отказом? Нет, поцелуй – это не шнурок от ботинок, и он, должно быть, прочитал у меня на лице, что не все страсти во мне потухли.
– Так вперед, – сказал он. Я отер губы бородой и понес их к его губам. – Минуточку, – сказал он. Я прервал полет. – Вы знаете, что это такое, поцелуй?
– Да, да, – ответил я.
– Не сочтите за грубость, а когда вы целовались в последний раз?
– Ну не то чтобы недавно, но навык меня не покинул.
Он снял шляпу, котелок, и постучал себя по лбу.
– Сюда, – сказал он, – и только сюда. – У него было благородное чело, высокое и белое. Он наклонился в мою сторону, прикрыв веки. – Быстрее.
Я сложил губы куриной гузкой, как учила меня мама, и запечатлел поцелуй в указанном месте.
– Довольно. – Он хотел было поднести ко лбу руку, но жест остался незавершенным. Он водрузил на голову шляпу. Я обернулся и бросил взгляд на противоположную сторону улицы. Только теперь я заметил, что мы расположились прямо напротив конебойни. – Вот, держите. – А я и забыл. Он поднялся. Роста, как оказалось, он был небольшого. – Все по-честному, – сказал он с лучезарной улыбкой. Зубы его сверкнули.
Я слышал, как замирают в отдалении его шаги. Когда я поднял голову, никого не было. Как рассказать остальное? Но это конец. Или все это приснилось мне и снится до сих пор? Нет, нет, ничего подобного, таков мой ответ, потому что сон – это ничто, шутка. И к тому же шутка со значением! Я сказал себе: «Оставайся на месте, пока не рассветет. Ожидай, во сне, пока не потухнут фонари и не оживут улицы. Если потребуется, спросишь дорогу у городового, он обязан тебе помочь под страхом нарушения присяги». Вместо этого я встал и пошел дальше. Мои боли вернулись, но теперь им сопутствовало какое-то необычное свойство, не позволявшее мне в них завернуться. Но я сказал себе: «Мало-помалу ты вернешься к себе». Меня можно было узнать, если бы меня знали, уже по моей походке, медленной, ригидной, словно решающей при каждом шаге неповторимую статодинамическую задачу. Я пересек улицу и остановился у окна конебойни. За решеткой обнаруживались задернутые занавески, грубоватые занавески из полотна в сине-белую полоску – цвета Пречистой Девы, – отмеченные большими розовыми пятнами. Но в середине они оказались сомкнуты неплотно, и в щелку можно было разглядеть траурные конские туши, нутрованные и подвешенные головами вниз. Я терся о стены, изголодавшись по темноте. Подумать только, что скоро все будет сказано, все придется начинать сначала. А городские часы, что с ними в конце концов было такое, отчего куранты отвешивали мне, проникая даже через кроны деревьев, страшные, морозные удары? Что еще? Ах да, мои трофеи. Я пытался думать о Полине, но она от меня ускользнула, сверкнула как молния и исчезла, как незадолго до того молодая женщина. Я предался горестным мыслям о козе, но и тут оказался бессилен сосредоточиться. Так я двинулся дальше, в нестерпимом сиянии, облаченный в свою старую плоть, вожделея найти выход, однако минуя многочисленные двери по правую руку и по левую, а разумом стремясь то к одному, то к другому, неизменно возвращаясь туда, где не было ничего. Все же мне удалось задержаться взглядом на маленькой девочке, разглядев ее чуть лучше, чем это было бы возможно в других обстоятельствах, на ней, кстати, была неопределенного вида шапочка, а в одной руке она держала книгу, возможно молитвослов, – я попытался вызвать у нее улыбку, но она не улыбнулась, а исчезла в темном парадном, не подняв на меня личико. Мне пришлось остановиться. Вначале ничего, затем потихоньку, то есть восставая из тишины и тут же утверждаясь в воздухе, возник огромный шепот, происходивший, быть может, из дома, стена которого не давала мне упасть. Это напомнило мне о том, что дома полны людей, осажденных, нет, не знаю… Я отошел на шаг, чтобы взглянуть на окна, и тут же осознал, несмотря на ставни, шторы и завесу тайны, что комнаты были освещены. Однако свет этот был настолько слабый по сравнению с тем, что заливал бульвар, что, если бы мысль не склонялась к противоположному, можно было предположить, будто весь мир уснул. Многоголосное бормотание порою прерывалось паузами огорчения. Я подумывал о том, чтобы позвонить в какую-нибудь дверь и попросить убежища до утра. Но вот уже я шел дальше. Потихоньку, потоком одновременно стремительным и сладостным, темнота облекла меня со всех сторон. Изысканными каскадами затухающих оттенков умерло море цветов. Будто со стороны я увидел самого себя, как я с восхищением наблюдаю за медленным расцветом, во всю длину фасадов, квадратиков и прямоугольников, забранных решетками и створчатых, желтых, зеленых, розовых, в зависимости от портьер и штор. Затем наконец, прежде чем упасть, сперва на колени, подобно быку, потом ничком, я оказался в гуще толпы. Сознания я не терял, уж если я потеряю сознание, то оно ко мне не вернется. Люди не обращали на меня внимания, все же стараясь не наступать на меня, жест учтивости, который не мог меня не тронуть, ради этого я и вышел наружу. Мне, напоенному темнотой и покоем, было хорошо у ног смертных, в глубине зарождавшегося дня, если то рождался день. Однако действительность, я слишком устал, чтобы искать верное слово, не замедлила утвердиться вновь, толпа отхлынула, свет вернулся, и мне не хотелось отрывать голову от асфальта только для того, чтобы вновь обнаружить себя в слепящей пустоте. Я молвил: «Оставайся там, распластанным на дружелюбных плитах ну или на худой конец на равнодушных, не открывай глаза, дождись самаритянина, дождись, пока явится день, а вместе с ним городовой или, может быть, какой еще спасатель». Но вот я опять поднялся на ноги, продолжив путь, который не был моим, вдоль ведущего в гору бульвара. К счастью, он меня не ждал, бедный папаша Брим или Брин. Я молвил: «Море на востоке, а значит, идти нужно на запад, налево от севера». Однако напрасно я возводил безнадежные очи к небу в поисках Медведицы. Потому что свет, вытопивший меня, ослепил и звезды, если предположить, что они там были, в чем я усомнился, вспомнив об облаках.