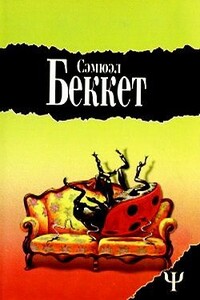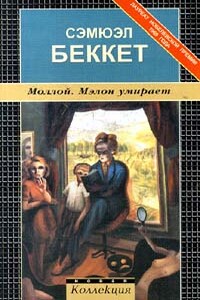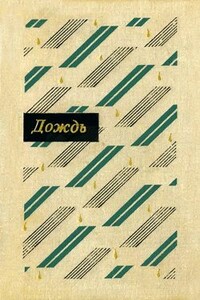Первая любовь | страница 29
– Не умеете, черт собачий, ходить как все, сидели бы лучше дома. – Он выразил мои чувства. А то, что он предположил наличие у меня дома, не могло не доставить мне удовольствия. В эту минуту мимо проехал похоронный кортеж, как иногда случается. В воздух поднялся вихрь шляп. Замелькали тысячи пальцев. Лично я, если бы мне пришлось осенять себя крестом, вложил бы в это все сердце, как полагается: переносица, пупок, левый сосок, правый сосок. Но эти люди, с их скорым и неточным шелестом пальцев, обращали распятие в какой-то неряшливый шар, ни малейшего порядка, колени под подбородком, руки невесть где. Самые упорные вставали как вкопанные и начинали что-то бормотать. Что до ажана, он тоже замер, закрыл глаза и отдал честь. В окнах составлявших кортеж фиакров я углядел людей, которые оживленно беседовали: несомненно, они обсуждали эпизоды из жизни покойного или покойной. Кажется, мне говорили, что декор катафалка зависит от пола умершего, но я так и не усвоил, в чем различие. Лошади пердели и гадили так, будто направлялись на ярмарку. Никто не преклонял колена.
Но такие вещи длятся у нас недолго, я имею в виду проводы в последний путь, сколько ни ускоряй шаги, а последний фиакр, тот, в котором едет прислуга, скоро оставит вас позади, вот и конец передышке, люди расходятся, пора подумать о себе. Дошло до того, что я остановился в третий раз, теперь исключительно по собственной воле, и нанял фиакр. Экипажи, которые только что меня обогнали, заполненные оживленно спорившими людьми, должно быть, произвели на меня неизгладимое впечатление. Огромный черный короб моего фиакра раскачивался на рессорах, окна маленькие, я скрючился в углу, воздух внутри затхлый. Я ощущал, как моя шляпа трется о потолок. Чуть позже я наклонился вперед и затворил окна. И снова уселся, спиной по направлению движения. Я было задремал, но скоро вздрогнул и проснулся от голоса, принадлежавшего, как оказалось, извозчику. Он открыл дверь, несомненно отчаявшись докричаться до меня через стекло. Мне видны были только его усы.
– Куда? – спросил он.
Подумать только, он нарочно слез с козел, чтобы сказать мне это. А мне-то казалось, что я уже далеко! Я поразмыслил, выискивая в памяти название какой-нибудь улицы или памятника.
– Ваш фиакр продается? – спросил я. – Без лошади. – Что мне было делать с лошадью? Ну а с фиакром что мне было делать? Смог бы я лежать в нем вытянувшись? А кто будет приносить мне еду? – В зоосад. – Маловероятно, чтобы в столичном городе не было зоосада. – Не слишком быстро. – Он засмеялся. Должно быть, мысль о скоростной поездке в зоосад его позабавила. Если только веселье его не было вызвано перспективой остаться без фиакра. Если только веселье его не было вызвано мной, моею собственной персоной, как если бы мое присутствие в салоне фиакра совершенно его преобразило, до той степени, что извозчик, наблюдая меня в экипаже, голова тонет в тени, колени упираются в стекло двери, задался, возможно, вопросом, неужто это его фиакр, неужто это вообще фиакр. Он метнулся к лошади, чтобы в последнем удостовериться. Но разве осознает себя человек, который смеется? Все же краткость его смешка предполагала, что причина не во мне. Он закрыл дверь и уселся на козлы. Лошадь вскоре тронулась.