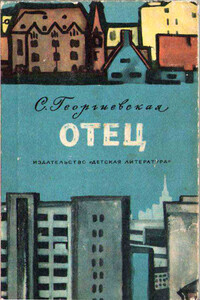Серебряное слово. Тарасик | страница 38
Красным светом отсвечивает на стеганой куртке комсомольский значок — эмалевое знамя, приколотое к серому отвороту, такое же, как у Леры и Чонака.
…Старик Таджи-Серен тоже задумался. Сидя в траве у дымящегося костра, поджав босые тонкие ноги, он молча набивает табачком трубку. Старость! Кривые от езды ноги. Скрюченные руки. Лицо без выражения. А зубы целы. Все целы. Один в один.
Из-под низко нахлобученной на лоб меховой шапки выбиваются волосы. Густые, темные, без седины. Они спускаются на лоб двумя треугольниками. И старые, мятые веки Таджи-Серена тоже как треугольники. Глаза смотрят в сторону Леры… Ему милы ее косой пробор, клетчатый воротник ее блузки, выглядывающий из-под стеганой курточки. Но больше всего ему нравится детское и вместе серьезное выражение ее розового, с косыми бровками, как будто постоянно о чем-то спрашивающего лица.
Таджи-Серен с одобрением поглядывает на ее измазанные смолой руки, на книжки, лежащие рядом с Лерой в траве.
В книгах мудрость сердца и сердце ума… С тех пор как в Туву пришли книги, совсем другая стала жизнь. В книгах рассказывается про то, как надобно сделать, чтобы не умирали новорожденные; как строить дом; как сеять хлеб; как запирать реки, чтобы появлялся вечером в колхозе свет — электричество. Книга — это летящий конь. Русские прозвали его «вдохновением».
Лера не замечает тонкой улыбки старика. Она смотрит в огонь.
Ей вспомнилось отчего-то, как однажды они с Розой Тарасовой забрались вечером на горушку в Тора-хеме. Было тихо. Со всех сторон вспыхивали огни керосиновых ламп в окнах.
И вдруг издали мигнул яркий, большой огонь. Он зажегся на поляне, где стояла партия геологов. То ли костер развели, чтобы дать ориентир самолету, то ли просто варили ужин, но Лера вдруг подумала тогда, что все эти костры — географов, железнодорожников, геологов, первых исследователей края — можно бы назвать кострами пионеров.
В самом деле, те детские, пионерские костры, которые она с товарищами разводила когда-то в лагере, обещали ей свет дальних маяков, неисхоженные дороги, костры ночных привалов и этот, сегодняшний, зажегшийся для нее в богатой и бедной, скупой и щедрой тувинской тайге.
Задумавшись, переворачивает на углях картошку Самбу.
Молча посасывает трубку оленевод Таджи-Серен.
Устали. Примолкли.
Ничто не нарушает тишины, только тихонько булькает в котелке чай.
И вдруг Сафьянов, крякнув, достает из огня, прямо руками, крупную, обуглившуюся с одного бока картофелину.