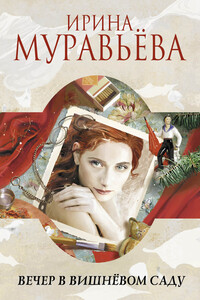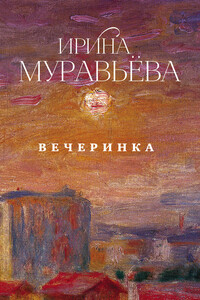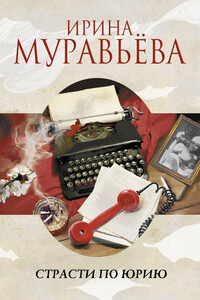Ты мой ненаглядный! | страница 69
– И правильно, Катя, – кивает бабуля. – Что с ней говорить! Как об стенку горох!
– А сами-то вы ведь боитесь ее. Она у вас все серебро потаскала, а вы, дак, ей слова, поди, не сказали! Она у вас, дак, все тарелки растащит!
И прячет лицо в красный пар от борща. Я чувствую, что тетя Катя красавица. Она выше всех, даже папы и дедушки, с руками, как бревна, с ногами, как бревна, но вот голова небольшая и гладкая. Ее обвивает коса. Когда, вся заснеженная, тетя Катя приходит с мороза, трясет снег с платка, – в косе зажигаются искры. Потом искры гаснут, но мокрые волосы еще долго пахнут сугробом, лоснятся.
– А Саша мой мне говорит, что, дак, видел, как эта Матрёна из вашей кастрюли чего-то хлебала. Стоит в темноте и хлебает, и жамкает. А вам, дак, плювать! Ведь плювать? Что молчите?
Бабуле, однако, совсем не «плювать». Матрёна хлебала из нашей кастрюли, а если в Матрёне, положим, глисты? Они теперь что? Тоже в нашей кастрюле?
– Пойду ей скажу. Пусть ответит: какую, мерзавка, хлебала кастрюлю?
И, вытерев руки о влажный передник, стучится к Матрёне:
– Матрёна, открой!
Сначала все тихо. И тихо, и страшно. Матрёниной смерти все ждут так, как ждали, наверное, только победы на немцем.
– Иди…
Это стон, это шелест травы, сухой, уходящей под снег и покорной.
– Матрёна! Какую хлебала кастрюлю?
– Чего я хлебала? Опять набрехали… Я Катьке, паскуде, все патлы повыдеру… Дай Бог мне подняться… Иди…
И клекот из горла. И вновь тишина.
Матрёниной смерти не помню. Исчезла однажды, и все.
Пришел участковый и с ними домуправ. В той комнате, где проживала покойная, стоял аромат векового тряпья. Спала на тряпье и тряпьем укрывалось. Однако порылись и видят: сундук. Вполне неказистый, угрюмого вида. Закрыт и не видно ключа. Взломали, конечно. И сразу ослепли: сундук был наполнен до самого верха серебрянной мелочью. Монетка к монетке, весь переливался. Тут домоуправ и закрякал, как утка: «Эк, эк». Участковый за ним. Покрякали и унесли наши денежки.
Глава вторая: свадьба
Тетя Катя никогда не называла дядю Сашу «мужем». Она говорила: «супруг», а чаще пышнее: «супруг Александер». У нас называли его просто «Сашкой».
– Поганый ты, Сашка, мужик! – сказала бабуля однажды в глаза.
Супруг Александер моргнул, но стерпел, зато тетя Катя обиделась:
– У вас у самих зять яврей. Дак что нам теперь? Из квартиры сьезжать?
История такая: в подвале нашего деревянного четырехквартирного дома, принадлежащего до революции какой-то купчихе, а может, купцу, жил дворник с семьей. И был он татарином, и дети его тоже были татарскими. Про них говорили: «татарские дети». Они были смуглыми, быстрыми, юркими, их очень нечасто и мало кормили, поэтому дед иногда приглашал «татарских детей» к нам обедать. Когда мы обедали вместе, то я ликовала: они были – гости, к тому же – мои.