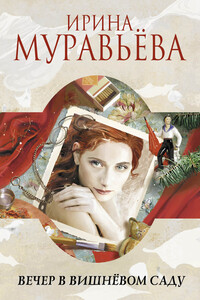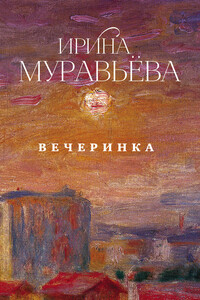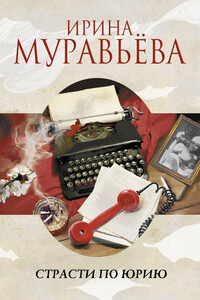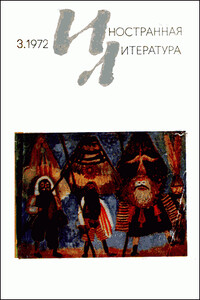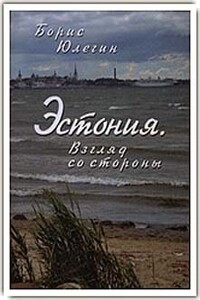Ты мой ненаглядный! | страница 13
– Прости меня, Анечка, я…
– Дурачок, – сказала она. – Ты ведь любишь меня?
Началась новая жизнь. Невыносимо острые, не до конца понятные ей самой ощущения, которые Анечка теперь испытывала всякий раз, когда они оставались наедине, наполняли ее каким-то странным, раздраженным сознанием власти над ним, как будто бы он был рабом, а она – госпожою. И то, что он ярко краснел и стеснялся, смотрел так, как будто сейчас убежит, – все именно это ведь и подтверждало! А Лазарь страдал от стыда, от неловкости, казалось, что он виноват перед нею, хотя было видно, что оба нуждались в здоровой телесной любви. Когда Анечка уводила его за занавеску, где стояла ее кровать, накрытая связанным Соней одеялом, и требовательно смотрела на него своими очень лучистыми глазами, уверенная, что его нерешительность вызвана опасением, как бы не вернулся кто-нибудь из домашних, Лазарю всякий раз хотелось сказать ей, что у него есть Сюся, и поэтому даже если он никогда не ляжет с Анечкой на эту кровать и никогда не закричит от чисто физической, сладостной муки, во время которой мужчина не помнит, ни где он, ни кто с ним, то он очень скоро забудет и Анечку, и запах ее очень белого тела, и то, как она часто-часто моргает и не произносит ни слова во время их быстрых, пугливых, неловких сближений.
Через полтора месяца она сказала маме, что ее тошнит, и мама вместе с Соней – обе закутанные в пуховые деревенские платки и перепуганные насмерть – выпросили у Иакова лошадь с подводой, чтобы отвезти Анечку в больницу. Иаков низко опустил голову, и видно было, как у него задрожала левая щека.
– Что с Мириам? – спросил он глухим рваным голосом.
– Она нездорова, – сказала жена. – Пусть доктор посмотрит.
– Пусть доктор посмотрит. – Он побагровел. – А мы с тобой разве без глаз? Мы слепые?
В областной больнице высокая, похожая на мужчину, с мелкой, кудрявой растительностью над верхней губой и вдоль щек, фельдшерица обнаружила, что Анечка беременна. Выслушав эту новость, немые от ужаса мама и Соня дрожащими руками напялили на Анечку шубку, всунули в валенки ее крохотные ноги и, плача навзрыд все втроем, вернулись домой. Иаков в железных очках и в ермолке сидел за столом, на котором лежала раскрытая Тора. Он сразу все понял.
– Иди сюда, Мириам. Садись и не бойся.
Лицо его словно подернулось пеплом. Стараясь не задевать взглядом ее тела, как будто бы в теле ее было что-то, чего он боялся, Иаков спросил, как же это случилось. Она промолчала.