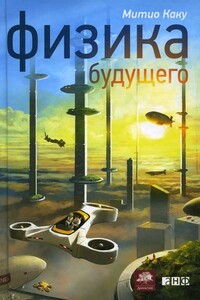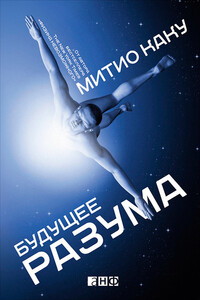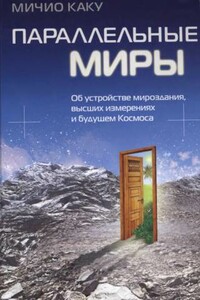Космос Эйнштейна. Как открытия Альберта Эйнштейна изменили наши представления о пространстве и времени | страница 78
Таким образом, Эйнштейн видел перед собой ясную стратегию: создать теорию чистого мрамора, исключить дерево, переформулировав все законы исключительно в терминах мрамора. Если бы удалось показать, что само дерево состоит из мрамора, то на свет появилась бы чисто геометрическая теория. К примеру, точечная частица бесконечно мала и не имеет пространственной протяженности. В теории поля точечная частица представлена «сингулярностью» – точкой, где напряженность поля стремится к бесконечности. Эйнштейн хотел заменить эту сингулярность гладкой деформацией пространства и времени. Представьте изгиб на веревке. С некоторого расстояния он может выглядеть как частица, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что это всего лишь сильная кривизна веревки. Так же и Эйнштейн хотел построить теорию, которая была бы чисто геометрической и не имела вообще никаких сингулярностей. Элементарные частицы, такие как электрон, выглядели бы в ней как узелки или небольшие морщинки на поверхности пространства-времени. Фундаментальной проблемой такого подхода, однако, было то, что у него не было какой-то конкретной симметрии или принципа, которые могли бы объединить электромагнетизм и гравитацию. Как мы уже говорили, ключевым методом Эйнштейна было объединение через симметрию. При работе со специальной теорией относительности у него была картина, на которую он все время ориентировался, – полет рядом со световым лучом. Эта картина помогла выявить фундаментальное противоречие между механикой Ньютона и полями Максвелла. Отсюда Эйнштейн сумел извлечь принцип постоянства скорости света. Наконец, он сумел сформулировать симметрию, объединяющую пространство и время, – преобразования Лоренца.
Аналогично при работе с общей теорией относительности его тоже вел визуальный образ, где гравитация порождается искривлением пространства и времени. Эта картина выявила фундаментальное противоречие между теорией всемирного тяготения Ньютона (где гравитация действовала мгновенно по всему пространству) и теорией относительности (где ничто не может двигаться быстрее света). Из этой картины Эйнштейн тоже сумел извлечь принцип – принцип эквивалентности, согласно которому ускоряющиеся и гравитирующие системы отсчета подчиняются одним и тем же физическим законам. Наконец, он сумел сформулировать обобщенную симметрию, описывающую ускорения и гравитацию, – а именно общую ковариантность.
Задача, стоявшая перед Эйнштейном на этот раз, была поистине пугающей, поскольку в этой работе он обгонял свое время по крайней мере лет на пятьдесят. В 1920-е гг., когда работа над единой теорией поля только начиналась, единственными твердо установленными силами были гравитация и электромагнетизм. Ядро атома было открыто Эрнестом Резерфордом совсем недавно (в 1911 г.), а сила, удерживающая вместе его составные части, была еще покрыта плотным покровом тайны. Но без понимания ядерных сил Эйнштейну недоставало ключевой детали головоломки. Более того, ни один эксперимент и ни одно наблюдение еще не вскрыли никакого противоречия между гравитацией и электромагнетизмом, за которое, как за крючок, мог бы ухватиться Эйнштейн в своих рассуждениях.