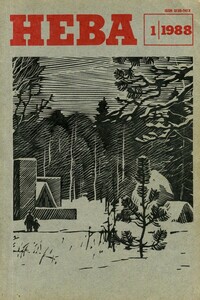Три обезьяны | страница 12
От дедушкиного серьезного взгляда и судьбоносного тона я тоже начинал нервничать, но не собирался в этом признаваться. «Пусть будет елка, если он хочет», — только и сказал я. Дедушка молча посмотрел на меня, а через какое-то время вспомнил байку об одном еврее, чей сын надумал креститься. Дедушка очень хотел рассказать байку, но запутался еще в начале, будучи не в состоянии решить, кто с кем говорил: сын с отцом, или отец с Богом, и он прижал ладонь ко лбу и попросил меня подождать.
Мамэ приоткрыла дверь на кухню и позвала меня вытирать посуду.
Она терла тарелку щеткой для мытья посуды. Раз за разом одно и то же место. Рот извергал проклятия.
Ее короткие и толстые пальцы напоминали соленые огурцы. Ногти, покрытые густым слоем темно-красного лака, не доходили до кончиков пальцев. Она перенесла какую-то болезнь, от которой у нее дрожали руки. Дрожали так, что она больше не могла играть на пианино. Она считала это трагедией. Без музыки она получеловек.
Но, несмотря на дрожь в руках, мамэ не перестала рисовать. По утрам она садилась за кухонный стол и рисовала яблоки, вид в сад или свои фантазии. Я никогда не говорил ей о том, что тоже рисую. Я не хотел быть похожим на мамэ, она была с легкой чудинкой. Ее поведение за столом было просто катастрофой. Во время еды она издавала звуки, похожие на собачий лай, и охотно говорила с набитым ртом. Было трудно понять, что она собирается делать: глотать или выплевывать. Вытаскивая изо рта куриные кости, мамэ наклоняла голову к самой тарелке и выплевывала их. Но и тогда она не переставала говорить. Всегда об ужасных вещах, о серьезных вещах, о принципах, которых действительно придерживалась, о людях, которых действительно видела насквозь.
Пока она говорила, ее лицо темнело. Она всегда знала, что мама папе не пара. Она его отговаривала, а он не слушал. И никто не слушал. Они думают, что могут обращаться с ней как угодно. Мамина мама, которой она доверяла. Мамин папа, о котором она была такого высокого мнения. Они предали ее, оба. Они должны были образумить свою дочь, говорила она мне, а не потворствовать ее mishigaz[16].
Мамэ с такой силой опустила щетку в воду, что пена перелилась через край мойки. Схватив меня за футболку, сказала, что она никогда не сможет снова посмотреть в глаза моей бабушке или маме. Она не говорила, а шипела, пристально глядя на меня. Мне хотелось отвести глаза, но я не решался. «Он должен был меня послушать. С самого начала я знала, чем это кончится. Слышишь меня, Койбеле