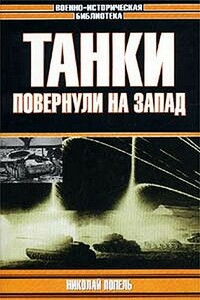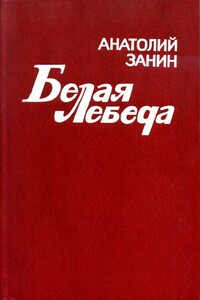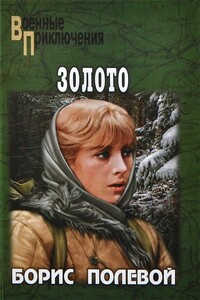Военная система | страница 71
· У Чингисхана на всю его армию был единственный писарь который записывал только самые важные мысли, соображения и приказы Чингисхана.
· Один из его тысячников однажды в бою стремился всегда вперед без оглядки на свое подразделение, старался завоевать боевую славу, и получил ранение стрелой. Субэдей, полководец Чингисхана подозвал его к себе и сказал следующее: «Посмотри на Чингисхана – он стоя на одном месте, двумя тремя словами, брошенными связному, поворачивает целое крыло своего войска в нужном направлении!». – Учись у него! (это своего рода идеал в управлении войсками, к которому нужно стремиться). (примеч. авт.)
Когда начиналась Великая Отечественная война Красная Армия его встретила с «Шапошниковской» штабной системой с десятками тысяч писарей и штабистов обученных лишь красиво и напыщенно составлять документы. Они были оторваны от полевых командиров и представляли собой лишь бюрократическую структуру. Когда армия отступала то первыми бежали штабы, вереницы штабных машин возглавляли бегство в 1941 году.
Когда подписывался Акт о безоговорочной капитуляции Германии в присутствии Жукова, то он был изложен всего на 1 единственном листе бумаги, в нескольких экземплярах. То есть в течении войны Красная Армия изжила эту болезнь «Бюрократизм, формализм, волокита, показуха». Имеется в истории тенденция, по которой весь боевой опыт командиров и полководцев полученный на войне постепенно утрачивается, и начинает брать верх эта извечная болезнь бюрократизма и формализма – враг любой армии.
В «Волоколамском шоссе» также упоминается что у генерала Панфилова, кроме оперативных карт, на рабочем столе никогда не было никаких бумаг.
Из книги генерала Гареева М.А. «Полководцы Победы и их военное наследие»: Представитель академической школы признавал лишь монолог при отдаче боевого приказа и организации взаимодействия с обязательным перечислением всех пунктов и уставных требований. Хлебнувший сполна боевого опыта командир был поглощен лишь тем, как лучше довести задачу до подчиненных, добиться ее глубокого уяснения. Любой опытный командир во время войны знал, что о нем будут судить не потому, как он докладывает решение, внешне «правильно» организует бой, а единственно потому, как будет выполнена боевая задача. Поэтому для него бессмысленно обращать внимание на внешнюю сторону дела.
Обо всем этом не раз приходилось вспоминать на послевоенных учениях, когда после громкого и с пафосом объявленного пространного боевого приказа и многочасовых указаний по взаимодействию, подчиненные командиры и начальники родов войск иногда так и не могли толком уяснить, какие задачи поставлены и как им надо действовать. Ибо весь процесс выработки решения, постановки задач, организации боевых действий был пропитан формализмом, и главная забота командиров и штабов состояла не в том, чтобы лучше выполнить задачу, а в стремлении лучше «показать» себя. Внешне все было как будто «правильно», но полностью оторвано от существа дела. Всю сложнейшую работу по подготовке боя и операции стали главным образом сводить к разработке многочисленных, громоздких документов, где среди обилия отвлеченных теоретических положений утопали конкретные задачи и суть дела. Да и вся утвердившаяся после войны система парадности и показухи, пренебрежения к делу, поощрения серости и подавления творчества не очень способствовали органическому соединению теории и практики.